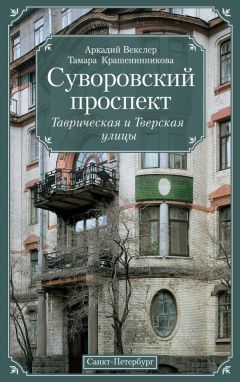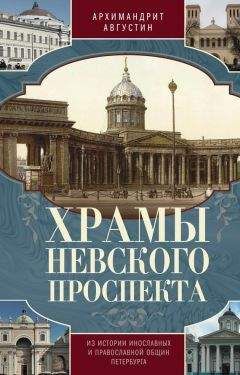Александр Николюкин - Розанов
Гимназисты питали презрение ко всему русскому, вернее — ко всему «своему», «близкому», «здешнему», — и переменяли имена на чужие. Прочитав Бокля и Дрэпера, Розанов выбрал себе английское имя «Вильям». Симбирский приятель Розанова по фамилии Кропотов называл себя и подписывался: «Kropotini italio».
Гимназисты «набирались миросозерцания». К ним троим примкнул Петруша Поливанов (в дальнейшем народоволец, пробывший в заключении в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях 20 лет), — но не был прилежен. Костя Кудрявцев посмеивался издали. Остафьев «ничего не мог». Лишь эти трое были самыми развитыми гимназистами, «наукообразными».
В гимназии же Розанов «безумно полюбил» философию. «Самая интересная» (книги Джорджа Генри Льюиса и другие). И конечно, история, философия истории: в третьем — пятом классах — Бокль, в шестом — Бентам и Милль, в восьмом — «История возникновения и влияния рационализма в Европе» В. Э. Лекки. «Мы читали, изучали, составляли рефераты и прочитывали в общем собрании „нашей маленькой Академии“, — вспоминает Розанов. — Она была нисколько не хуже (теперь думаю) Петербургской с ее чиновниками и лестью высокопоставленным лицам („почетные академики“). У нас был энтузиазм, вера в науку и углубленное философское о ней размышление»[64].
В самой гимназии успехи Розанова были, как уже говорилось, весьма слабы, что не преминуло сказаться: он дважды оставался на второй год в том же классе и кончил гимназию лишь в 1878 году. Ему было 22 года. Уже в восьмом классе он должен был взять отсрочку воинской повинности, но никакого о том понятия не имел.
Вдруг дома спохватились: «Василий, сколько тебе лет? Иди скорее в Воинское присутствие». Василий пошел. Там старичок генерал. Взглянул на какую-то бумажонку, которую он ему подал, и начал кричать. Василий молчит, а тот еще кричит. Наконец говорит: «Подпишитесь задним числом». Василий подписался «задним числом», ничего не понимая. — «Смотрите же впредь… Прощайте», — сказал генерал и чуть ли даже руку не подал. Придя домой, рассказал брату Николаю, который был вместо отца. Он и говорит: «В Австрии, если, отправляя письмо, положить на него по ошибке или неведению марку низшего достоинства, чем следует, — то взыскивается с адресата в восемь раз стоимость недодачи. Также и в прочих штрафных случаях. У нас просто взыщут недодачу. И вот теперь этот случай: ведь можно принять за уклонение от воинской повинности, и тогда…»[65]
Василий не понял, что «тогда». Вспоминая этот случай из своей юности, Розанов прибавляет, что правительство у нас скорее лениво и неумело. Но оно не «зло», «коварно» или «выжимательно» («выжимают налоги»). Злоупотребления по части «перебрать чужую денежку» он впервые встретил в Петербурге среди лиц очень образованных, ученых и литературных. В провинции же «взять взятку» — сама мысль об этом представляет ужас. Такое впечатление осталось у Розанова от провинциальных чиновников, столь красочно изображенных Гоголем взяточниками.
В гимназии же, когда Розанову было 18 лет, зародилась его первая любовь — к учительнице музыки Юлии Каменской: «Это был прекрасный роман, ни от кого не скрытый. Я был в VII классе гимназии. Мы чудно читали с нею Монтескье, Бентама и немного „шалили“ (256). Ей было 19 лет, но она заболела, пошла горлом кровь, и родители увезли ее летом 1877 года в деревню Ключицы Нижегородской губернии».
Сохранились копии писем Юлии, снятые рукой Василия Васильевича. В одном из них, 18 февраля 1876 года, она пишет: «Не можешь ли ты прийти сегодня, это будет удобно. Мы будем одни, а завтра приедет моя мать. Милый мой, все, кто узнал мою любовь к тебе, — все восстали против нее, т. е. все, кому успела разблаговестить Анна; если бы ты только знал, какая у меня накопилась против всех злоба — ужасно! Не знаю, на горе или на радость мы сошлись с тобою, только теперь-то я знаю, что люблю тебя. Вся твоя Юля. Пишу на уроке. Я тебя буду ждать в пять часов. Ответь или приходи»[66].
Получив летом 1876 года «кислое» письмо Розанова, его друг Кудрявцев иронично вопрошает: «Разве quasi-вдовушка уехала из Нижнего? или твоя симпатичная amante изменила тебе, что люди опять начинают казаться тебе „копошащимися“ червяками и собственное твое я чуть-чуть не разлетается мыльным пузырем? Не подумай, милый Вася, что я смеюсь над тобой, но мне, честное слово, самому до крайности жалко тебя и горько за состояние твоего духа…» (256).
Память о первой любви осталась в душе Розанова: «Милые, милые люди: сколько вас, прекрасных, я встретил на своем пути. По времени первая — Юлия. Проста, самоотверженна» (51).
Глава третья МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. АПОЛЛИНАРИЯ СУСЛОВА
1 июня 1878 года Розанов получил в Нижегородской гимназии аттестат зрелости, в котором были выставлены отметки: Закон Божий — 4, русский язык и словесность — 3, логика — 4, латинский язык — 3, греческий язык — 3, математика — 3, физика — 3, история — 4, география — 3, французский язык — 3.
По этому далеко не блестящему аттестату он был 1 августа того же года принят в число студентов Московского императорского университета, где через четыре года получил аттестат, что окончил курс по историко-филологическому факультету и определением Университетского совета утвержден в степени кандидата.
Однако мечта об университете, выношенная на берегах Волги, обернулась обманом. Розанов рассказывает об этой мечте юности: «Мы все были теоретиками и мечтателями с ранней школьной скамьи. Средняя школа для нас проносилась, как в тумане, и мы все смотрели, из разных захолустных уголков России, в ту неопределенную даль, где для нас и было только одно — сияние милого, обвеянного мечтами, нас ожидавшего университета. Собственно, только эта поэзия ожидания и согревала нас в те ранние годы, и ничем учитель не мог так привязать к себе и заинтересовать в классе, как рассказав что-нибудь о годах своего университетского учения — какие бывают профессора, что они читают, какой они имеют вид, наконец. Мы уже во многом были серьезны, но если в чем были дети, со всей поэзией детства, со всею нескрываемою и нас не смущавшею наивностью, так именно в этом ожидании, в этих усилиях представить людей, занятых только наукой, т. е. изысканием истины, и совершенно непохожих на всех окружавших нас, которые нам наскучили, которых мы часто не любили и не уважали. Помню эти долгие, уединенные прогулки по нагорному берегу Волги, с определением по положению солнца того направления, где был университетский город и куда вот уже скоро умчит поезд и… тогда начнется совсем, совсем другое» [67].