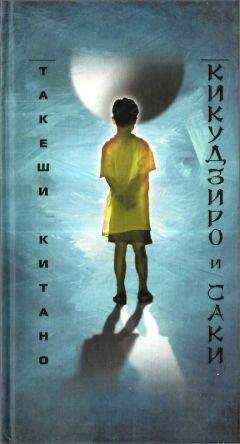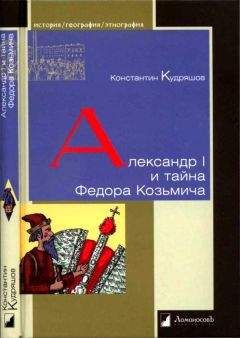Константин Фишер - Записки сенатора
Внутреннее убранство его покоев представляло тип сурового воина и восточного сибарита. Рабочий стол его окружен был рыцарями в стальных латах, и все стены обвешаны мечами, ружьями и пистолетами. Среди комнаты лежал огромный ньюфаундленд, грозный и смышленый; рядом комната, обвешанная и устланная богатыми коврами; вокруг стен — широкие турецкие диваны; на полу — богатый кальян, а в стене огромное зеркало, составлявшее скрытую дверь. «Здесь, — говорил он мне, — покоюсь я в объятиях Морфея, когда мне отказывают в других».
Таким оставался Перовский до самой смерти, храбрым и в поле, и на придворном паркете. В турецкую кампанию стоял он у скалы в кружке офицеров, как упала перед ними бомба, шипя и вращаясь. Все обомлели; Перовский же сказал спокойным голосом: «Прислонись!» — и, прислонясь к горе, выждал хладнокровно, пока бомба лопнула и разослала во все стороны свои осколки.
Но я еще гораздо более удивляюсь его мужеству при дворе. Кажется, в 1833 году государь имел неосторожность приказать генерал-губернатору отдавать под военный суд мастеров, которые будут делать неформенные эполеты. Вскоре после этого странного повеления Перовский приезжает на вечер к великой княгине Елене Павловне в рассыпчатых матовых эполетах. Приехал государь. Увидя Перовского, он сказал ему шутя:
— А как ты смел надеть неформенные эполеты?
— Виноват, государь, это ошибка камердинера.
Государь вспыхнул, стал выговаривать ему, что он, едучи во дворец, не смотрит даже, что надевает на него камердинер, и, разгорячась от собственных речей, как это часто бывает, кончил тем, что приказал уже отдавать эполетчиков под суд и потребовал, чтобы Перовский назвал ему его эполетчика.
— Государь, — отвечает он, — я не могу позволить себе складывать свою вину на мастера; виноват не тот, кто делает, а тот, кто надевает неформенную одежду.
— Я повелеваю тебе сказать мне имя его. Осмелишься ли ты ослушаться высочайшей воли.
Перовский доложил на это, что он исполнит эту волю, но не прежде, как по снятии с него эполет и аксельбантов, потому что роль доносчика на мастерового считает несовместною с генеральским чином и, еще более, с генерал-адъютантским званием. Государь отошел от него, не возразил ни слова. Перовский уехал, но этим и кончилось, и повеление об эполетчиках совершенно забыто.
Но и у него была ахиллесова пята: он был ревнив. Княгиня Гагарина, прекрасная собою, была предметом обожания всей молодой свиты князя Меншикова, в том числе и моего; она живала летом в Ораниенбаумском дворце и пригласила меня туда же на несколько дней. Испросив на это позволение князя, я поехал в Ораниенбаум, но через три дня получил от В. А. Перовского записку с замечанием, что я не имею права отлучаться и заставлять других работать за себя. Этот упрек был несправедлив, потому что я один работал более, чем все другие секретари канцелярии вместе. Князю очень не понравилась эта выходка; он, вероятно, обнаружил это Перовскому, и преследования его усилились, так что наконец я вошел с ним в объяснение, причем высказал ему удивление, что генерал-адъютант решился начать неравный и, следовательно, бесславный бой с 24-летним титулярным советником. Перовский, по благородству души своей, увидел мелочность своих поступков и стал оказывать мне самое дружеское расположение, даже проводил у меня вечера, когда я был болен. Раз я спросил его, за что он меня преследовал. «Кто старое помянет, тому глаз вон», — отвечал он мне в смущении.
Между тем он усилил атаку на сердце княгини и победил его; кажется, он в самом деле влюбился в нее, а она полюбила его со всею страстью 35-летней женщины, но добродетельная, «варварских правил» (по выражению ее брата), не обещала ему ничего, кроме своего сердца. Перовский готов был предложить ей свою руку; он опасался только, что князь ему отказал бы в согласии, что он сказал бы: «Я не хочу иметь незаконнорожденного своим зятем». Княгиня не опасалась этого; она уверена была, что брат не остановился бы на подобных затруднениях, но объявила Перовскому, что не пойдет за него, потому что слишком его любит, что брак его «с старою вдовою» будет смешон, что он не обладает достаточною философией, чтобы быть равнодушным к насмешкам, что она не хочет быть причиною его огорчений и что она умрет от страстной любви, но не отдаст ему ни руки, ни чести. И она, бедная, умерла от любви, даже скептик князь Меншиков был этого мнения. По кончине сестры он нашел в ее бумагах дневник, которого каждая страница пылала страстью и обливалась слезами отчаяния; между тем 15-летняя дочь ее Наталья (теперь Соловова) стала уже кокетничать с Перовским и тем сводила с ума свою увядающую мать; у них бывали сцены, достойные сожаления, в которых мать лишалась своего достоинства, а дочь предвещала свою будущность.
Князь П. П. Гагарин, родной брат мужа сестры князя Меншикова, бывший тогда обер-прокурором в московском сенате, давно уже вздыхал по своей невестке. После трагической смерти своего брата он как опекун его детей перевез княгиню в Москву, «чтобы удобнее заниматься опекой» и с надеждою понравиться вдове. Это ему не удалось, но впоследствии он, говорили, обольстил младшую племянницу, княжну Катерину, которая и до сих пор не замужем.
Здесь, в Петербурге, оставался дом княгини, и в Павловске — дача ее мужа, на Константиновском пруду. Княгиня просила меня принять эти дома в мое покровительство; я отдал петербургский дом внаймы, а дача была так ветха, что Гагарин назначил ее в продажу. С императрицею Марией Феодоровною Павловск лишился своего населения; о железной дороге не было еще и помыслов; войск тоже не было в Павловске, который таким образом представлял захолустье, с группою карточных домиков, с поблекшими украшениями и прогнившими кровлями. Дача князя Гагарина стала совершенною развалиною; после многих напрасных поисков нашелся охотник купить дачу за десять тысяч рублей (ассигнациями), полковник Мочульский, и то с тем, чтобы ему был дан немедленный ответ, дабы он мог до осени покрыть строения новыми крышами. Гагарин писал мне, чтобы я дал Мочульскому честное слово, что дача останется за ним, и Мочульский тотчас принялся за исправление дачи. Когда все крыши были возобновлены и печи переложены, что стоило Мочульскому более двух тысяч рублей, явился Киреевский, предлагавший за дачу двенадцать тысяч рублей, и Гагарин приказал продать дачу ему.
Я напомнил князю честное его слово, на что он отвечал мне, что в официальных действиях честное слово ничего не значит. Я написал это княгине, описал ей затруднительное свое положение и объявил ей, что, при всем желании служить ей, не могу продолжать сношения с опекуном, которого понятия о чести так противоположны с моими. Княгиня прислала мне две тысячи рублей для возвращения Мочульскому и извиняла своего зятя, однако я не согласился иметь с ним какое-либо дело и прекратил с ним сношения.