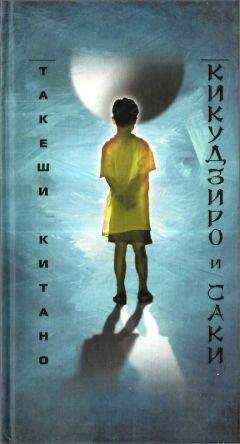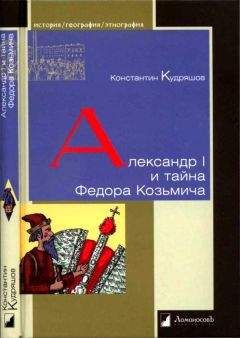Константин Фишер - Записки сенатора
Император Павел, живя в Гатчине, много читал, причем имел привычку все оставлять на столе, так что стол был иногда завален раскрытыми книгами и бумагами, друг с другом перемешанными. Потом, когда ему нужно было отыскать книгу или бумагу, сердился. Дружинин имел смелость, с тем же простодушным смехом, предложить свои услуги убирать книги на свое место, а недочитанные класть на особый стол всякий раз, когда император уезжает из дворца. Государь и на это согласился, так велико было его доверие к Дружинину.
Все это слышал я от самого Дружинина, не в виде сплошного рассказа, а в течение десяти лет, когда я был с ним очень короток и почти каждый день в его доме. Дружинин очень художественно описывал приемы и весь тип императора Павла. Он любил его и говорил о нем с каким-то состраданием. Не припомню всех штрихов его кисти, в сочетании которых обрисовывалась личность императора; помню только, как он описывал его одинокую жизнь в Гатчине; он (большей частью или часто — не помню) обедал один; после обеда становился перед окном и, глядя бессознательно на парк, проводил деревянной зубочисткой по зубам, очищая зуб за зубом, очень ускоренным движением зубочистки. Это продолжалось иногда с час, видимо, что он и зубы чистил бессознательно, углубленный в мысли. Обыкновенно он приходил в эти минуты или в уныние, или в раздражение; выходил из комнаты угрюмый, и голос его делался мрачнее обыкновенного; он становился даже придирчив, и плохо было тому, кто навлекал на себя его неудовольствие при таком настроении духа.
Но и при таком настроении благоволение к Дружинину не изменялось. У императора был любимый камердинер, которого имени не припомню, хотя сто раз его слышал, кажется, Овсов. У него была хорошенькая жена, а Дружинин, хотя и влюбленный, не мог не ухаживать за хорошенькими. Обыкновенно он проводил у нее время, когда государь отпускал его, — обыкновенно с того времени, когда выезжал на предобеденную прогулку, до вечера. Один раз осенью Овсова (положим) жаловалась ему, что не может достать рябины для наливки. Дружинину показалось забавным, что среди парка, тянущегося на несколько верст во все стороны, нашелся человек, затрудняющийся в сборе нескольких горстей рябины. Он вызвался услужить молодой хозяйке, позвал первого попавшегося ему истопника и велел ему нарвать для г-жи Овсовой рябины. Этот болван вздумал рвать прямо перед окнами государя и рвать по-русски: «ломает — не тужит». Император, подойдя к окну с зубочисткой, видит, как злодей гнет и обламывает целые ветви. «Давайте сюда этого мошенника!» — закричал он гневно. Притащили несчастного и бросили перед императором. «Как ты смел ломать мои деревья?» — «Виноват, ваше величество! Господин Дружинин приказал!» — «Врешь, мошенник!» — закричал император взбешенный. — «Господин Овсов приказал!» — «В крепость Овсова», — было решение, высказанное особенным, сосредоточенным в гортани голосом, который Дружинин, говорили, метко подделывал. «Можно себе представить мое отчаяние, — говорил Дружинин уже на старости, складывая молебно руки, — я бросился к Лопухиной, но она не взялась просить за Овсова в тот же день; на другой день его освободили»[1].
Немудрено, что Дружинин, состоя в таких отношениях с императором, сдружился с великим князем Александром Павловичем: молодым человеком того же возраста и стоявшим менее твердо пред государем, чем разночинец Дружинин.
С великим князем он был так близок, что в компании с ним устроил даже две фабрики: одну — для изготовления пружин к карманным часам, другую — шляпную, с мастером Гаттенбергером, но ни та ни другая не пошла. Первая, изготовлявшая пружины за один рубль вместо рыночной цены в десять рублей, уничтожилась потому, что сбывала не более пятидесяти пружин в год; вторая не знаю почему не устояла.
По восшествии на престол Александра Павловича Дружинин занимался делами важными и весьма разнообразными. Он пересматривал уставы о постепенном освобождении прибалтийских крестьян, он написал положение об аудиториате и обсуждал финансовые вопросы. Государь считал его способнейшим министром финансов, но, по господствовавшему тогда мнению, находил необходимым, чтобы на этом кресле сидел вельможа, и выбор пал на Гурьева, с условием, чтобы он взял Дружинина в директоры канцелярии. Гурьев, не из дальних вельмож сам по себе, но женатый на Салтыковой, был человек необыкновенно надменный; позвал к себе Дружинина, принял его свысока и объявил ему, что он назначается министром финансов и берет к себе Дружинина в директоры канцелярии. Дружинин отвечал, что он не желает быть директором канцелярии, о чем Гурьев с неудовольствием доложил государю; но государь приказал ему упросить непременно Дружинина принять эту должность, дав почувствовать Гурьеву, что без этого он не будет и сам назначен. Гурьев переменил тон, и как своим, так и царским именем упросил Дружинина. На этом месте он и оставался лет двадцать пять.
На беду свою, Дружинин не был в состоянии никому в чем-либо отказать, а еще менее красивой женщине. Он завел связь с Тимковскою, женщиною расточительною и алчною; она сосала из него деньги, а он должал и должал. Государь несколько раз платил за него долги, несколько раз дарил ему земли под самым городом и топи в устьях Невы, но все это разлеталось в прах. У Тимковской расплодилось большое семейство, один сын был в кавалергардах, другой — в конной гвардии, все расточительны, и Дружинин дошел до того, что стал принимать подарки, а потом и оказывать услуги в ожидании подарков. Репутация его помрачилась, и в старости он, добрейший человек, слыл за плута и боролся с бедностью, снося это не только с терпением, но писал своему идолу, жене старшего сына Тимковской, что страдания его гордости услаждают его сердце, доказывая, что он не щадит ничего и не жалеет ни о чем, если жертвы могут возбудить на лице его ангела улыбку удовольствия. В моем мнении он был прекрасный, но несчастный человек.
Дубенский умен, как бес, дурен, как бес, и по правилам бес. Он нажил себе огромное состояние. Канкрин не любил его, но не находил человека с его умом и потому держал его.
Мечников, грубый мужик, — дядя Ковалевского, министра народного просвещения. Дела таможенные шли очень дурно, контрабанда действовала открыто; закупив все таможенное ведомство, она доказала, что либеральный тариф не может остановить ее. Тариф 1819 года похож был на последствия мирного трактата побежденного государства, — и полагали, кажется, не без основания, что Обресков и Гурьев были подкуплены. Гурьев около того же времени заключил разорительный внешний заем, доставивший ему большие капиталы, которые впоследствии наследовал сын его из амстердамского банка. Составился другой тариф, Гурьева удалили, и к управлению таможенным ведомством был призван однорукий Бибиков, человек с железною волею и бессострадательным сердцем (впоследствии министр внутренних дел). Управление Бибикова было драконовское: за малейшую оплошность, за ошибку в письме чиновники исключались из службы; за малейшее потворство купцам — отдавались под суд. Испуганная сволочь переполошилась и разбежалась; их заместили люди из гвардейских офицеров, приглашенных Бибиковым. Таможенный доход удвоился; отечественная промышленность ожила: повсюду воздвигались фабрики, и наш курс достиг небывалого уровня — 414 сантимов за рубль серебра или за четыре рубля ассигнаций. Департамент внутренней торговли был при Гурьеве в не менее жалком положении. Комитет снабжения войск сукнами воровал сотни тысяч и делился с департаментом и канцелярией. Директором департамента был назначен Уваров, но без видимой пользы. Уваров, лицо большого света, известное в ученом мире, прекрасный собою, богатый по жене (Разумовской), был характера подлого, ездил к министерше, носил на руках ее детей, словом, подленькими путями прокладывал себе дорогу к почестям. Розенберг долее и чаще всех работал с министром: знал, что Канкрин придавал особенную важность департаменту государственного казначейства. Преемники его видели в этом департаменте простого счетчика и забросили его. Так же деятельно работал министр с графом Ламбертом по комиссии погашения долгов, — последним бывшим у нас практическим дельцом по кредитной части.