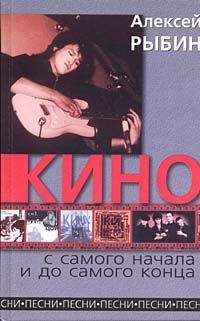Борис Павленок - Кино. Легенды и быль
Время было непростое. Никита Сергеевич, развалив все, что смог, в сельском хозяйстве, обрушил свою неуемную энергию на подъем литературы и искусства. Воспоследовал ряд возвышений и падений имен и судеб, притом без всякой системы. Одних, как Солженицына, подняли до уровня Льва Толстого (статья Ермилова в «Правде»), других утюжил бульдозерами (в буквальном смысле, как это было с выставкой скульпторов-модернистов). Поэтов-новаторов Никита Сергеевич без долгих раздумий окрестил «пидирасами», на Анне Ахматовой висело грязное пятно, как на публичной женщине. А что же «важнейшее из искусств»? Подать сюда Тяпкина-Ляпкина! И последовал разгром новой картины Марлена Хуциева «Застава Ильича». Я состоял в одной партии с Хрущевым, исповедовал те же идейные принципы, смотрел оба варианта картины – основной и переделанный – и, честно говорю, так и не понял, что вызвало гнев «кукурузника», где он усмотрел крамолу. Обычные противоречия отцов и детей, которые, освоив опыт старшего поколения, идут дальше, хотят жить по-своему. Ему бы, мудрецу доморощенному, «сделать стойку» на Солженицына. Хитрый политикан, Хрущев не без умысла разоблачил бесчинства Сталина. Это был громадный политический выигрыш для него и в общественном, и в личном плане: под расстрельными списками стояли и его подписи. Крича громче всех: «Держи вора!», он переводил стрелку на Сталина, отводил от себя и соратников участие в политических репрессиях. У него хватило ума и хитрости остановиться на политическом разоблачении культа личности, не допустив разгула эмоций. Представим себе на минуточку, какую волну народного гнева вызвали бы живые свидетельства мучеников режима в пору, когда многие еще были живы, а раны свежи. Но на уста средств массовой информации была наложена печать умолчания. «Культ личности, культ личности!» – кричи, сколько хочешь, но ни одной личной судьбы, ни одной картинки истязаний на телеэкране, ни одной подробности тюремного и лагерного быта в литературе и искусстве. Культ был, а последствий вроде бы и не было. Романтические образы борцов революции и кристально-чистых комиссаров по-прежнему волновали бардов с Арбата, заодно они славили хрущевскую «оттепель». Власти опомнились и начали уводить Солженицына потихоньку в тень, а потом и вовсе сплавили за границу. Но джинн сталинских репрессий уже был выпущен из бутылки и начал будоражить общество, подкапываясь исподволь под устои советской власти. А вслед за «оттепелью» пришли «холода».
Тайной за семью печатями осталась для меня травля гениальной картины Андрея Тарковского «Андрей Рублев», которую то выпускали на экран, то снимали, то разрешали вывезти за рубеж, то требовали отозвать в день, когда уже в Париже был объявлен сеанс. Председатель Госкино А. Романов метался между Гнездниковским переулком и Старой площадью. В конце концов «Рублев» все же уехал на Каннский фестиваль и получил приз ФИПРЕССИ (объединения прессы), хотя, на мой взгляд, более достойного претендента на главный приз не было. Мне кажется, что именно издевательская возня с «Андреем Рублевым» ожесточила характер Тарковского, он озлобился и возненавидел любое прикосновение указующего перста к его творчеству. Помню, значительно позднее, когда было закончено и принято к выпуску на экран «Зеркало», оставшись вдвоем с Андреем, я спросил:
– Андрей Арсеньевич, мне, ради постижения вашего творческого опыта, интересно, как возникла потребность в данном месте фильма использовать библейский образ «неопалимой купины»?
Он жестко сомкнул челюсти и процедил сквозь зубы:
– Я Библию не читал...
Такая откровенная ложь и нежелание разговаривать меня даже не обидели: он в каждом «руководящем» вопросе видел подвох. А мной руководил неподдельный интерес к его творческому методу.
Как мне кажется, столкнувшись с феноменом «Андрея Рублева», власть предержащие испугались раскованности мысли и новизны киноязыка, которые все более настойчиво утверждались в творчестве молодой режиссуры. Вероятно, особенно пугало, что эти веяния пришли с западными ветрами. Я помню, какое ошеломляющее впечатление произвели на меня работы итальянских неореалистов и польских мастеров Ежи Кавалеровича и Анджея Вайды. Экран заговорил языком жестокой правды, от которой старательно оберегали советских кинематографистов и начальство, и официальная кинокритика. С языка наших молодых режиссеров не сходили имена мастеров психологического кино: Микеланджело Антониони и беспощадного в обличении «общества потребления» Фредерико Феллини, обнажающего ханжество и убогость духовного мира буржуазии испанца Луиса Бунюэля и других мастеров западного кино. К сожалению иные из наших режиссеров с жадностью заглатывали свежую наживку. Но вместо творческой переработки великолепного опыта старались механически наложить на нашу жизнь буржуазные схемы. Но убожество хрущевских пятиэтажек никак не компоновалось с роскошью буржуазных апартаментов, а наша домохозяйка, замученная очередями, глядя на терзания богатой бездельницы-буржуазки, вздыхала: «Мне бы ваши заботы». Мода рождала поток серых и фальшивых картин.
Неразборчивость поражала. Почему за образцами надо ехать за границу? Западные мастера называли своими учителями российских гениев, Достоевского и Толстого, Эйзенштейна и Станиславского, в полную мощь развернулся талант великого Бондарчука, ошеломлял открытиями в области киноязыка Андрей Тарковский, герасимовский «Тихий Дон» потрясал глубиной исторического исследования и верностью в раскрытии народных характеров, а мы долбили: Феллини, Антониони, Антониони, Феллини... Но и тот и другой были глубоко национальны в своем творчестве! Думаю, никто из них не взялся бы, да и не смог поставить сцену псовой охоты так, как это сделал Бондарчук в «Войне и мире», не было и нет равных ему баталистов, он обессмертил образ русского солдата и беспощадно осудил войну в фильме «Судьба человека».
На «Беларусьфильме» удачи сопутствовали режиссерам, которые следовали традициям русского реалистического искусства, опирались на исторический опыт народа, не отвергали традиций жанрового искусства. Виктор Туров, после экранизации повести П. Нилина «Через кладбище», поставил по сценарию замечательного литератора Геннадия Шпаликова поразительную по глубине чувства ленту «Я родом из детства». Сиротская судьба автора и трагизм военного детства режиссера дали удивительно душевный, окутанный печалью сплав, картину редкую по душевной тонкости, я думаю, одну из лучших об украденном войною детстве. На серьезные обобщения вывела картину песня Владимира Высоцкого «На братских могилах не ставят крестов». Большой удачей для неуемного фантазера и выдумщика Володи Бычкова стала редкая по цельности стиля, живописности и романтизму сказка «Город мастеров». Борису Степанову удалось талантливо перенести на экран повесть Василя Быкова «Альпийская баллада». Увенчалась успехом попытка исторической драмы «Москва – Генуя» режиссера Алексея Спешнева. Писатель Алесь Адамович вместе с Туровым взялись за большую картину на партизанскую тему «Сыновья уходят в бой».