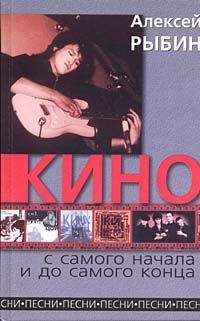Борис Павленок - Кино. Легенды и быль
– Повторить.
Он остался доволен сыгранным куском только тогда, когда вошел в запал бешеной ненависти к псу, угрожающему его жизни. Рассказывали – этого не было в кадре – что собаку с трудом отобрали у актера. Едва выдохнув:
– Довольно... – он, обессиленный, упал на траву.
А как роскошно вел сцену игры в бильярд Белокуров, воплощавший в фильме «Москва – Генуя» образ Ллойд-Джорджа. Эпизод записан в сценарии двумя строчками, а опытный актер растянул его метров на 150 (полчасти), сделал ударным и чрезвычайно важным для концепции фильма. Вот он, не спеша, берет кий, рассматривает его, поворачивается к столу, добродушно ворчит, улыбаясь в усы, вышколенный и величественный английский дедушка, этакий сытый кот. И все время от него глаз не оторвать. Шельма, Актер Актерыч! Но вот одно мгновенное, резкое движение – и кот превращается в хищника, достойного представителя Владычицы морей.
Я сдал в положенные сроки все фильмы, и каждый из них возил в Москву лично. Во-первых, надо было перезнакомиться с аппаратом, найти друзей, во-вторых, следовало заставить уважать себя. За короткие пробежки по коридорам власти в прежние заезды я понял, что ждать милостей от чиновников не приходится. Над ними не капало, и съемочные группы просиживали неделями в ожидании заветного акта о приемке фильма. Просмотр фильма? Нет, давайте завтра... хотя, лучше, послезавтра... Следующий этап: обсуждение. Завтра, на свежую голову. Акт подготовим к завтрашнему утру... Акт готов, надо подписать у начальника главка... Нет, сегодня его не будет. Они были славные ребята – сначала Лева Кулиджанов, потом Юра Егоров. Но ни одного, ни другого на месте не поймать. А еще предстоит, чтобы зам. председателя Госкино Владимир Баскаков украсил завизированную всеми бумагу своим автографом. А у Владимира Евтихиановича, мрачного на вид, но «доброго внутри», настроение менялось, как осенний ветер... Всем им было не понять, что опоздай акт на один день, банк прихлопнет счет студии, и полторы тысячи человек не принесут домой зарплату... Безразличие к судьбе студии предстояло переломить. И переломил. Никогда не сидел в Москве больше двух дней. Всех начальников брал мертвой хваткой. Главное было внушить, что Белоруссия – это не Белорусская область, вроде, скажем, Вологодской, а суверенная республика, такая же, как и РСФСР, а фильм сдавать приехал не завхоз «Беларусьфильма», но министр и полномочный представитель правительства республики. Правда, если зампред Госкино пытался улизнуть через другую дверь, чтобы не брать на себя ответственность, а спихнуть на другого, полномочный министр не гнушался перехватить беглеца и сунуть ему ручку для подписи.
А дела шли своим чередом. Работяга Петр Борисович Жуковский, нахмурив брови и строго поджав губы, безотказно и успешно тащил кинофикацию и кинопрокат, я старался му не мешать. Правда, пришлось немало потрудиться, чтобы он научился улыбаться, уж слишком суров был. Зато второй заместитель, Володя Ивановский, знакомый мне по вместной работе секретарями горкомов комсомола, заносчивый и малость хвастливый витеблянин, был энергичен сверх меры и порой путал мне карты. С Жуковским они были на ножах. Разрулить ситуацию помогло несчастье – едучи зимней ночью к жене в Витебск, погиб «добрый дух» студии, Иосиф Дорский. Я затеял большую реорганизацию. Во-первых, надо было ликвидировать студию документальных и научно-популярных фильмов, которая влачила жалкое существование в приспособленном здании – бывшем костеле. При этом техническая база «Беларусьфильма» использовалась на половину мощности. Я уже предлагал документалистам переехать туда, но они цепко держались за свои занюханные углы. Во-вторых, мне не нужны были два зама, которые мешали друг другу. Пускай будет так: один зам, он же начальник главного управления кинофикации и кинопроката, второй зам, он же генеральный директор студии. С проектом постановления я пошел к председателю Совмина. Он встретил меня недоверчиво:
– Что, опять явился какие-то загадки загадывать? – Он побаивался нас двоих, самых молодых министров: меня и Леонида Хитруна, председателя госкомитета сельхозтехники, – чуть не на каждом заседании Совета министров мы поднимали «неудобные» вопросы.
– Честное слово, Тихон Яковлевич, никаких загадок. Все ясно, как божий день.
Прочитав бумагу и проект постановления, он поднял на меня глаза и улыбнулся:
– Очень дельно. Действуй. Внесу на ближайшее заседание.
Я поблагодарил и поднялся, чтобы уйти, но он придержал:
– Погоди, а теперь скажи мне, зачем ты это делаешь?
Я удивился:
– Там же все написано...
– Мало ли что написано... А на самом деле?.. Избавиться от кого-то надо?
– Тихон Яковлевич, вы мне не верите? Смотрите: никого не увольняю, все при деле, все при зарплате, а кое-кто и прибавку получит, большая экономия за счет ликвидации студий...
Он пожал плечами:
– Чудак. Все идут, просят: дай, дай, дай, а ты предлагаешь – возьмите.
– Я вас обманывал когда-нибудь? Помните, триста тысяч? Все до копейки вернул, а ведь мог и не вернуть, и вы ничего бы мне не сделали.
Он засмеялся:
– Убедил, действуй.
Несмотря на вопли документалистов, не желающих покинуть любимых тараканов, я провернул реформу в две недели, и все стало на места. Костел передал Союзу кинематографистов, чем сразу завоевал доверие его председателя, старейшины белорусского кино, Владимира Владимировича Корш-Саблина, и он перестал мешать моей работе. Жуковский понемногу привыкал улыбаться, не бегал ко мне жаловаться на Ивановского. Ивановский оказался на редкость деятельным и полезным работником на студии. С моих плеч свалилась куча хозяйственных забот, которые покойный Дорский очень умело перекидывал на меня. Даже сдачу картин Володя взял на себя. Мы с ним затеяли и провернули очень большое дело: в 43 километрах от Минска получили 70 гектаров леса и лугов на пересеченной местности, с ручьем, который преобразили в пруд, заброшенной узкоколейкой. Организовали там площадку для съемок на натуре. За счет строительства декораций выстроили целый городок – гостиницу, склад для аппаратуры, партизанский лагерь, старую деревню... Все – под видом декораций. Хотя это были декорации, но в отличие от старого порядка, отсняв, не ломали и не жгли их, не продавали на дрова. А 43 километра – это уже можно было приплачивать к зарплате командировочные расходы, чего, скажем, нельзя было делать при 40 километрах. Сколько тысяч принесла эта площадка за счет сдачи в аренду другим студиям и насколько удобнее стало работать самим!
Время было непростое. Никита Сергеевич, развалив все, что смог, в сельском хозяйстве, обрушил свою неуемную энергию на подъем литературы и искусства. Воспоследовал ряд возвышений и падений имен и судеб, притом без всякой системы. Одних, как Солженицына, подняли до уровня Льва Толстого (статья Ермилова в «Правде»), других утюжил бульдозерами (в буквальном смысле, как это было с выставкой скульпторов-модернистов). Поэтов-новаторов Никита Сергеевич без долгих раздумий окрестил «пидирасами», на Анне Ахматовой висело грязное пятно, как на публичной женщине. А что же «важнейшее из искусств»? Подать сюда Тяпкина-Ляпкина! И последовал разгром новой картины Марлена Хуциева «Застава Ильича». Я состоял в одной партии с Хрущевым, исповедовал те же идейные принципы, смотрел оба варианта картины – основной и переделанный – и, честно говорю, так и не понял, что вызвало гнев «кукурузника», где он усмотрел крамолу. Обычные противоречия отцов и детей, которые, освоив опыт старшего поколения, идут дальше, хотят жить по-своему. Ему бы, мудрецу доморощенному, «сделать стойку» на Солженицына. Хитрый политикан, Хрущев не без умысла разоблачил бесчинства Сталина. Это был громадный политический выигрыш для него и в общественном, и в личном плане: под расстрельными списками стояли и его подписи. Крича громче всех: «Держи вора!», он переводил стрелку на Сталина, отводил от себя и соратников участие в политических репрессиях. У него хватило ума и хитрости остановиться на политическом разоблачении культа личности, не допустив разгула эмоций. Представим себе на минуточку, какую волну народного гнева вызвали бы живые свидетельства мучеников режима в пору, когда многие еще были живы, а раны свежи. Но на уста средств массовой информации была наложена печать умолчания. «Культ личности, культ личности!» – кричи, сколько хочешь, но ни одной личной судьбы, ни одной картинки истязаний на телеэкране, ни одной подробности тюремного и лагерного быта в литературе и искусстве. Культ был, а последствий вроде бы и не было. Романтические образы борцов революции и кристально-чистых комиссаров по-прежнему волновали бардов с Арбата, заодно они славили хрущевскую «оттепель». Власти опомнились и начали уводить Солженицына потихоньку в тень, а потом и вовсе сплавили за границу. Но джинн сталинских репрессий уже был выпущен из бутылки и начал будоражить общество, подкапываясь исподволь под устои советской власти. А вслед за «оттепелью» пришли «холода».