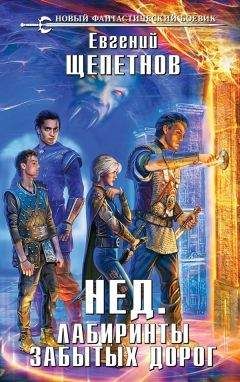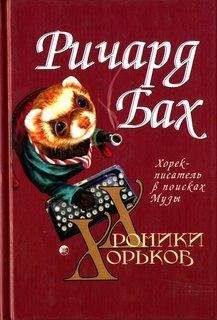Елизавета Орлова - Моя жизнь. Фаина Раневская
Видимо, чтобы облегчить мне судьбу и сложившуюся ситуацию, он прервал работу над рисунком и купил в ближайшем магазине мясные полуфабрикаты. А я тут же положила их на сковороду. Правда, пока он доводил рисунок, мы заговорились, и полуфабрикаты сгорели. Пришлось идти обедать в Дом актера. На Пушкинской площади я шепнула ему:
– Видите высокого человека в спортивной куртке? Это поэт Сергей Васильев.
– А вам не приходит в голову, – спросил он, – что в этот момент кто-то показывает на вас и говорит: «Видите эту импозантную даму с красивой сединой? Это…»
Я поспешно оглянулась и быстренько вошла в подъезд Дома актера.
Врачи ругали меня за то, что я не выпускала из рук сигареты, они удивлялись моим легким:
– Чем же вы дышите?
– Пушкиным, – отвечала я.
Вообще с этими сигаретами и папиросами у меня случалось немало казусов и каламбурчиков. Я как-то позволила себе одну вольность – стоять в своей гримуборной совершенно голой (так я отдыхала от громоздких сценических костюмов) и, при этом, как и полагается, курила. Вдруг ко мне без стука вошел директор-распорядитель Театра им. Моссовета Валентин Школьников. И ошарашено замер. А что мне было делать? Я спокойно и в непринужденной форме спросила:
– Вас не шокирует, что я курю?
…У меня было обостренное чувство сострадания… к мясу. Не могу его есть: оно ходило, любило, смотрело… Может быть, я психопатка? Про курицу, которую пришлось выбросить из-за того, что нерадивая домработница сварила ее со всеми внутренностями, я подумала: «Но ведь для чего-то же она родилась!».
Я продолжала играть, даже когда мне это было уже трудно физически.
Вся театральная и нетеатральная Москва ходила в Театр Моссовета, чтобы посмотреть на меня в спектаклях «Странная миссис Сэвидж» и «Дальше – тишина». В «Тишине» мы с Пляттом играли старых супругов, которых разлучают дети, потому что никто из них не хочет забирать к себе сразу двоих родителей. Зал рыдал…
А в роли старой няньки Фелицаты в комедии Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше», я светилась любовью, моя роль, собственно, и являла собой здравый смысл и добро. Я двигалась с трудом, выходила на сцену в мягких домашних тапочках, и все, наверное, понимали: это не решение художника по костюмам, а единственная приемлемая для больных ног обувь. Хуже всего было, что я все время волновалась, будто непременно забуду текст.
– Все, хватит, больше не могу играть! – каждый раз говорила я, но все умоляли меня не уходить из спектакля. По их словам, я была его талисманом.
Когда ко мне пришла в гости Мария Миронова, я пожаловалась ей:
– Это не комната. Это сущий колодец. Я чувствую себя ведром, которое туда опустили.
Разумеется, дважды лауреату Сталинской премии нельзя было долго оставаться в таких условиях. В начале пятидесятых я получила двухкомнатную квартиру в высотном доме на Котельнической набережной. Новая квартира не шла ни в какое сравнение с былым «колодцем». Апартаменты именовались «квартирой высшей категории» и, надо сказать, носили это высокое имя по праву.
Правда, были у новой квартиры и недостатки. Из закрытых окон дуло, звукоизоляция оставляла желать лучшего. Вдобавок на первом этаже дома в числе прочих «учреждений быта» находилась булочная, и когда по утрам во время разгрузки машин с хлебом грузчики начинали швырять лотки на асфальт, весь дом тотчас же просыпался.
Поскольку с другой стороны дома находился кинотеатр «Иллюзион», я шутила:
– Я живу над хлебом и зрелищем! – перефразируя известный возглас древнеримской черни перед гладиаторскими боями в Колизее во времена императора Августа: «Хлеба и зрелищ!»
Дом стоял довольно далеко от центра Москвы, от театра и тем более от Павлы Леонтьевны. Но я эту свою квартиру так и не полюбила. Несмотря на все ее достоинства.
В 1973 году я переехала в кирпичную шестнадцатиэтажную «башню» в Южинском переулке, чтобы жить рядом со «своим» Театром имени Моссовета.
С порога вошедшие попадали в небольшой холл с репродукциями Тулуз-Лотрека на стенах, который почти полностью был занят громоздким шкафом с двумя скрипучими дверцами. Из холла можно было пройти направо по коридору на кухню и в спальню, устроенную всю сплошь в темно-синих тонах, со множеством фотографий, висевших по стенам. Павла Леонтьевна Вульф, Анна Андреевна Ахматова, Василий Иванович Качалов, Любовь Петровна Орлова…
Пройдя из прихожей прямо, гости оказывались в гибриде гостиной и кабинета – просторной светлой комнате, главным украшением которого служил светло-зеленый гарнитур карельской березы, приобретенный мною «по случаю» во время гастролей в Прибалтике. Прямо перед большим окном в кадке росло лимонное дерево, некогда росшее возле чеховского дома в Ялте и привезенное оттуда в подарок почитателями моего таланта.
Справа на стене висели портреты людей и собак. Те же Ахматова, Качалов, актриса Театра имени Моссовета Мария Бабанова, балерина Майя Плисецкая со своим пуделем, я с Мариной Нееловой, дворняга с ежом, Владимир Маяковский…
Я Глеба усыновила, а он меня уматерил!
Около пяти лет, от случая к случаю фиксируя свои впечатления от общения со мной, Глеб Скороходов готовил книгу «Разговоры с Раневской».
А начиналось все это так:
– Фаина Георгиевна, почему бы вам не написать о своем творчестве, о встречах, о театрах? Было бы безумно интересно! – обратился он ко мне однажды.
– Вы так думаете, Глеб? А я думаю иначе. Писать мемуары – это все равно, что показывать свои вставные зубы! Я скорее дам себя распять, чем напишу книгу «Сама о себе». Я не раз начинала вести дневник, но всегда сжигала написанное. Как можно выставлять себя напоказ? Знаете говорить о себе хорошо – это нескромно, а плохо – как-то не хочется. А вот вы журналист, взяли бы и записали. Я вам столько рассказываю, а вы забываете, – ответила я ему.
Вот он и стал фиксировать мои воспоминания, отзывы, мнения. Я же к нему относилась несколько настороженно.
– О, вы опасный человек. Вам не все можно рассказывать…
Я всегда обладала прекрасной памятью. Но у этой памяти есть свойство, которое остро необходимо комедийной актрисе. Охотнее всего мне вспоминались нелепости жизни, противоречия между возвышенным и низким, настоящим и искусственным. Беседуя с Глебом, я всегда поясняла, что он мог записать, а что и вовсе нельзя было использовать. Так и говорила ему:
– Не подумайте записывать.
Он уверял меня, что так и сделает.
– Ах, оставьте. Все, что запечатлено на бумаге, делается свидетельством, документом. А то, что написали вы, – это почти готовая книга, – говорила я ему.
Закончилась же наша работа таким диалогом: