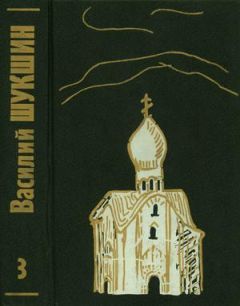Владимир Коробов - Василий Шукшин: Вещее слово
Какие же силу воли, желание и стремление надо иметь, чтобы собрать всего себя в кулак, сжать, как пружину, и жить в таком положении! Кто—то в увольнение – на прогулку, в парк, на набережную с девушками знакомиться, а ты – в библиотеку, в читальный зал. Кто—то после ночной радиовахты – отсыпаться всласть, а ты – прикорнул два часа и – за учебники. Кто—то свободные часы проводит на волейбольной площадке, в красном уголке за шашками и шахматами или просто «байки травит», а ты – опять—таки – корпишь над какой—нибудь физикой или химией. Отдых же твой единственный – в перемене книг: точные и естественные науки сменяются русской классикой или книгой по отечественной истории, бывают, конечно, «срывы» – не смог, например, отказаться от участия в художественной самодеятельности, сам даже захотел. Но это детали, это нетипично. Хорошо еще, что «умники» приставать перестали: дескать, зачем раньше времени голову забиваешь, золотые, редкие на службе часы непутем тратишь; вот кончится служба – и на здоровье, учись себе в вечерней школе. Чем не выход?
Но Василия Шукшина подобное уже не устраивало. Он чувствовал себя каким—то преступным растратчиком своего прежнего времени, строго судил себя за это и даже не пытался выслушать другой голос, который его вполне извинял, объяснял, что не он в том виноват, а жизнь так неудачно складывалась. Но Шукшин в этот период уже начал делать самого себя, был неумолим к себе и строг сверх меры. Он не мог тогда знать этих вот строк Николая Рубцова, но внутренний его, душевный настрой был примерно такой же:
Мы сваливать не вправе
Вину свою на жизнь.
Кто едет, Тот и правит,
Поехал, так держись!
Он и держался, он решил во что бы то ни стало вернуть себе, наверстать те три года, которые бы потребовались для учебы в восьмом, девятом и десятом классах. (Учились «для себя» и некоторые другие матросы – те, кто отдал ему потом учебники, – но ни у кого из них не было такого отставания и пробела в знаниях, как у Шукшина.) Скорейшее же получение аттестата зрелости было необходимо ему не для того, чтобы заиметь потом хоть какую—нибудь «престижную» и уважаемую профессию (и без аттестата он мог поступать в техникум, скажем, или в среднее военное училище). Аттестат ему позволял вернуться в Москву и поступать в заветный институт на Тверском бульваре, позволял – при удаче – «выучиться на писателя». Для этого стоило замкнуться, отмалчиваться в разговорах, недосыпать, корпеть над книгами, держать себя в кулаке, напрягать волю.
Ни тогда, ни долго после того Шукшин не имел перед собой, на своем жизненном и творческом пути живого примера, реального человека, который олицетворял бы собой не только Писателя, но и был в то же время личностью, которая достигла творческих высот наперекор всему: рождению, среде, воспитанию, образованию, условиям жизни и т. д. – самым неблагоприятным, самым суровым, изматывающим физически и душевно. Но уже тогда перед ним стоял во весь могучий рост пример литературный – Мартин Иден Джека Лондона, герой, как мы знаем, которому его создатель отдал многое из собственной биографии.
Шукшин несколько раз упоминал потом в некоторых интервью и статьях «книгу юности» – «Мартин Иден», высоко ценил в целом Джека Лондона как писателя, не раз вспоминал о нем в задушевных товарищеских беседах о литературе (см. об этом, например, в воспоминаниях Л. Чикина). «Эта книга, – говорит В. Мерзликин, – была им не просто прочитана, а изучена еще до 1950 года». По тому же свидетельству, молодой Шукшин даже во внешних каких—то черточках и манерах подражал Мартину Идену.
Перечитав недавно внимательно роман знаменитого американца, я поразился тому, как много внутренне сходного у Мартина Идена и Шукшина! К тому же можно было без особого труда заключить, что молодой Василий Макарович воспринял эту книгу еще и как своего рода руководство к действию, как «писательский самоучитель».
* * *«Иным людям, – говорит в романе Мартин Иден, – нужны проводники. Это так. А мне кажется, что я могу обойтись и без них. Я уже довольно повертелся возле этих карт и знаю, которые мне нужны, и какие берега мне исследовать, я тоже знаю (Иден, как читатель помнит, бывший матрос. – В. К.). Один я гораздо скорее исследую их. Скорость флота меряется всегда по скорости самого тихоходного судна. Ну вот, то же самое и со школой. Учителя должны равняться по самым тихоходным ученикам, а я один могу идти быстрее».
Не потому ли и молодой Шукшин решил, что один он сможет идти быстрее, сможет обойтись без посещения вечерней школы, сдать экзамены экстерном?.. Подражание, следование Мартину Идену неминуемо приводили к воспитанию железной воли, к строгому и даже аскетическому образу жизни. Герой Джека Лондона говорил о себе: «Знаете ли вы, что я давно забыл, что значит уснуть спокойно и безмятежно? Мне иногда кажется, что миллионы лет прошли с той поры, когда я спал столько, сколько мне нужно, и просыпался просто оттого, что выспался… Когда я чувствую, что меня клонит ко сну, я заменяю трудную книгу более легкой. А если я и над этой книгой начинаю клевать носом, то бью себя кулаком по голове, чтобы прогнать сон. Помните, у Киплинга – о человеке, который боялся спать? Он пристраивал в постели шпору так, что, если он засыпал, стальной шип вонзался ему в тело. Я делал то же самое. Я решал, что не должен заснуть до полуночи, до часу, до двух… И шпора не давала мне засыпать до положенного времени. Я не расставался с этой шпорой в течение многих месяцев. Я дошел до того, что сон в пять с половиной часов стал уже для меня недопустимой роскошью. Теперь я сплю всего четыре часа». То же самое мог рассказать о себе не только совсем молодой Шукшин, но – и еще в большей степени – Шукшин тридцатилетний и сорокалетний. С той только разницей, что он не пристраивал стальную шпору, а пил стакан за стаканом черный кофе, тер до боли в глазах виски и курил сигарету за сигаретой.
Немало ему дал Мартин Иден и для понимания подлинной литературы и ее задач, а также для того – как, где и в чем искать ему собственную творческую дорогу, как и у кого учиться литературному мастерству.
«Он удивлялся надуманности большей части того, что попадало на страницы печати. Ни света, ни красок не было в этих рассказах. От них не веяло дыханием жизни… С недоумением он читал и перечитывал бесчисленные рассказы, написанные (он не мог не признать этого) легко и остроумно, но далекие от того, что составляет существо жизни… Мартин чувствовал силу и величие жизни, ее жар и трепет, ее мятежный дух – вот о чем стоило писать!» И дальше: «…Он знал жизнь, знал в ней все низкое и все великое, знал, что она прекрасна, несмотря на всю грязь, ее покрывающую, и – черт побери! – он скажет об этом свое слово миру. Неудивительно, что святые на небесах чисты и непорочны. Тут нет заслуги. Но святые среди грязи – вот это чудо! И ради этого стоит жить! Видеть высокий нравственный идеал, вырастающий из клоаки несправедливости; расти самому и глазами, еще залепленными грязью, ловить первые проблески красоты; видеть, как из слабости, порочности, ничтожества и скотской грубости рождается сила, и правда, и благородство духа».