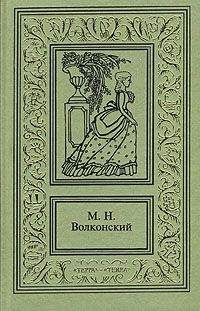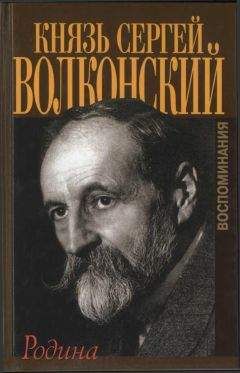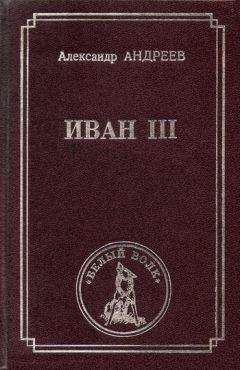Елена Дубинец - Князь Андрей Волконский. Партитура жизни
Кто-то сказал, что, когда все гибнет, остается только культура. Вот для того, чтобы культура не разрушилась, мы и существуем. Своей миссией я считаю защиту культуры (не путать с Министерством культуры). Когда ничего уже нет, она остается. Я считаю себя прежде всего представителем культуры. Хотя это слово испохаблено, для меня это чрезвычайно значимое понятие. А такие заведения, как Министерство культуры, создаются, когда уже нет культуры. Я не представляю, чтобы во Флоренции Медичи было такое министерство. Это словосочетание отвратительно.
В Германии было очень сильно понятие «Bildung». Теперь оно, наверное, тоже исчезло. Это понятие дало кальку для слова «образование» («Bild» – это образ, картина). Во времена Шёнберга это понятие уже не носило возвышенного смысла, а с приходом нацистов все рухнуло. Геринг говорил: «Когда я слышу слово «культура», я вынимаю пистолет». После войны вся образованная часть немецкого общества сбалансировала в левизну. Понятие культуры ассоциировалось с буржуазностью в плохом смысле слова.
В России было по-другому. Еще до «Мадригала», когда я стал давать сольные клавесинные концерты, были аншлаги, и приходила определенного типа публика. Как кто-то из моих знакомых сказал, одна часть публики была бородачи в свитерах, а другая часть – стукачи. Помню, я тогда пошутил, что они ходят слушать клавесин, потому что им не нравится Брежнев. То, что не нравится Брежнев, можно было отнести ко всему: и к эротической московской жизни, которая была весьма свободной, и к другим вещам. Еще я говорил о своей деятельности, что даю людям пирамидон.
Я вижу, что мы сейчас находимся в состоянии кризиса культуры, потому что общество находится в кризисном состоянии. Начиная с какого-то момента тот высокий уровень, который был в начале XX века в Вене, начал теряться. Все это происходило на моих глазах, и я даже в этом участвовал. Про себя могу сказать, что, когда я стал писать додекафонную музыку, это был «поворот спиной к тональности», а теперь я поворачиваюсь спиной в другую сторону и оказываюсь лицом к далекому прошлому.
В 50—60-е годы в Москву приезжало столько исполнителей со всего мира. А из клавесинистов кто-нибудь там побывал?
В этом смысле у меня не было никакой конкуренции. Однажды приехала швейцарка Изабель Неф, я даже переворачивал ей страницы. Она приехала со своим инструментом, с педалями. Она не признавала аутентичные инструменты.
Джоель Шпигельман учился в Москве и однажды дал полуофициальный концерт на маленьком клавесине, который потом стал клавесином «Мадригала». Он давал мне дельные советы. Я ведь ничего не знал и развивался совершенно интуитивно. Джоель мне очень помогал.
Клавесин в Москву первым привез перед смертью Гюнтер Рамин[31]. Он приехал с хором из лейпцигской «Томас-кирхе» и исполнял «Страсти по Иоанну» в Большом зале. Помню, я разрыдался в одном месте. Этой музыки я никогда до этого не слышал, и мне показалось, что они божественно исполняют. А еще на этом концерте случилось вот что. Это был День танкиста или другой подобный праздник. Была очень поздняя весна или даже начало лета, и поздно темнело. Сквозь окна Большого зала было видно, что еще день. В тот момент, когда Христос умирает, есть большая пауза, и вдруг в это время начался салют. Через окна был виден фейерверк. Это было очень странное совпадение, очень странное. Гюнтер Рамин подождал немножко, поскольку салют был шумный, и пауза стала больше. Совпадение с текстом всех очень удивило.
Что вы исполняли из современной музыки как пианист или клавесинист? Вы играли Шёнберга или Веберна?
Да, у нас с Лидой[32] был «liederabend» в Малом зале. В программе были сочинения Хуго Вольфа и Шуберта. А на бис – поскольку программу бы не пропустили – были песни Веберна, из третьего и четвертого опусов.
А был еще такой случай. Денисов дал мне ноты сочинения Донатони «Дубль» для клавесина, причем клавесина с педалями. Как сделать, чтобы сыграть? Я составил программу, в которой были Фрескобальди, Скарлатти, Циполи, Донатони. Они решили, что это все XVII век, не стали интересоваться, и таким образом я протащил эту пьесу благодаря итальянской фамилии автора. Я потом рассказал об этом Донатони при знакомстве. Он меня страшно разочаровал, оказался очень холодный и деловой человек. Меня не угостил. Я спросил, хочет ли он познакомиться с моей музыкой, он сказал: «Нет». Меня это не очень воодушевило. А я ведь рисковал, играя его музыку. Он даже спасибо не сказал.
Для клавесина не умеют писать, это инструмент другой эпохи, он не годится для современной музыки. Я для него не писал. Если писать для него так, как я вообще писал, то исказился бы дух инструмента. Нельзя «делать модернягу» на клавесине.
Строго ли вы оценивали свои выступления?
Иногда на концерте казалось, что очень удачно сыграл. А потом, при прослушивании записи, вдруг понимал, как плохо это было. Когда я работал над ХТК, очень много записывал на магнитофон, проверял себя. Потом обнаружил, что это сушит игру, и перестал это делать. Записывать можно, но в меру.
Как проходили ваши концерты?
Поначалу я боялся забыть и играл по нотам. А потом узнал, что и в старые времена играли по нотам. В молодости я играл наизусть; позже мне больше не хотелось учить наизусть и терять на это время.
Было страшно, когда я еще только начинал выступать. Одна женщина-конферансье переворачивала мне страницы в Ленинграде. Я ее попросил: «Если почувствуете, что я волнуюсь, щипайте меня». Она меня пощипывала, и это помогало. Я сильно волновался и ужасно много мазал из-за этого. Потом с возрастанием количества концертов это прошло, и у меня часто возникало возбуждение перед выходом на сцену, и даже со временем пришла эйфория.
Мне Рихтер говорил: «Надо часто играть, тогда волнение совершенно пропадает». Я даже иногда в антракте детективы читал, это всех очень удивляло. Знаю, что лабухи из оркестра играют в шахматы и шашки во время перерыва, но другое дело – солист. У меня было такое количество концертов, что полностью исчез всякий мандраж. На Западе я уже реже стал играть на публике.
Когда я попадал на гастроли в провинцию, меня обязательно приглашали в какой-нибудь дом, и в нем были провинциальные девушки – в них есть своя прелесть, в провинциальных девушках. Самое ужасное случалось, когда они начинали задавать вопросы. Во-первых: «Расскажите что-нибудь интересное». Тут же теряешь дар речи. Ну и потом: «Сыграйте что-нибудь свое».
На конкурсы Чайковского вы ходили?
Меня они совершенно не интересовали. Я против конкурсов, считаю, что это нездоровое явление. Был замечательный французский пианист Ив Нат, из гигантов, бетховенист, как ни странно для француза. Он очень обрушился на Маргарет Лонг, ведь с нее начались эти конкурсы. Сказал, что конкурсы превращают музыку в спорт. Могу только подписаться под этим. Ни на какие конкурсы я никогда не ходил.