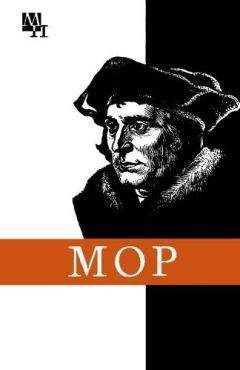Пьер Зеель - Я, депортированный гомосексуалист...
Но право сильного, конечно, налагает и определенные обязательства. Так у меня было, например, с одним тулузцем. Однажды вечером, совершая обязательный обход, я ему сказал: «Ты будешь делать как все: возьмешь свой котелок, пойдешь к морю, отскребешь, прополоскаешь и положишь сушить». Он молча смотрел на меня, неподвижно встав против всех, глядя мне прямо в глаза и не зная, на что решиться. Тогда я схватил его котелок и забросил в море как можно дальше. Его взгляд сверкнул ненавистью. Но он почувствовал, что все на моей стороне, повернулся и ушел.
Еще через несколько дней явились с инспекцией врачи и офицеры. Это были французы, прилетевшие на самолете из Парижа. Очень волнуясь, я рассказал им немного о пережитом. Они ответили: «Отныне вы под защитой Франции. Никому ничего не рассказывайте. Теперь вас зовут Селль, вы уроженец местечка Делль, что на территории Бельфора». Придется скрывать, что я эльзасец! И снова камуфляж, снова все эти полуправды, эта необходимость хранить тайну.
Под предлогом проверки гигиены врачи Красного Креста в сопровождении офицеров осматривают всех обитателей моей палатки, приказав раздеться до пояса и поднять руки вверх. Так выявляют членов Лиги французских волонтеров, то есть тех, кто добровольно поступил на военную службу к нацистам. Да, это правда — им ведь наносили под мышкой татуировку с указанием их группы крови — на случай потери сознания после ранения. Они в замешательстве, и тут же их арестовывают.
Вот оно как — даже в этом лагере на краю света, уже почти обретшие свободу после таких страданий, мы опять живем среди наших врагов! Кто они, эти? Ублюдки или простофили, одураченные человеконенавистнической идеологией нацизма? Я не знаю ответа. Во всяком случае, их нашлось немало, и тем же вечером всех посадили в самолет и отправили на французскую землю, чтобы немедленно предать суду. Среди них оказался и тот самый тулузец, который постоянно вступал со мной в спор.
Мне довелось пережить минуты восторга, я бы даже сказал — обожания, когда я общался с одним молодым человеком, которого мог бы, наверное, потом разыскать, если бы захотел. Часто он задумчиво сидел на горном склоне, где я выгуливал свою депрессию. Сын посла Норвегии, работавшего тогда в Париже, он был депортирован со всей семьей. Мы часто купались вместе, и Черное море, такое соленое, несло наши тела легко, не требуя усилий. Он не любил свою красоту, привлекавшую внимание многих. Он искал Бога и призывал его в сумерках. Верил ли он в Него? Во всяком случае, говорил, что для него это — способ отношений с миром, ориентир, свидание с высшей силой в минуты несчастий.
Мы встречались каждый вечер, но беседы наши были неловкими, потому что он с трудом говорил по-французски. Мы вновь обретали чувство ценности бытия и много раз представляли себе, как каждый из нас снова будет жить в своей семье. Мы говорили друг другу, что после долгих лет подчинения приказам в мире, огороженном колючей проволокой, вскоре опять сможем обрести энергию свободной воли, чувство личной ответственности, столько всего, чему мы разучились и что вселяло в нас страх. Важность этого обмена мнениями усиливалась длинными паузами. Мне еще никогда не доводилось встречать юношу такой благородной красоты.
Уже несколько лет как действовал договор о ленд-лизе. С самого начала наступления русских Великобритания поставляла в Россию материальную помощь. Эта поддержка оказывалась всем странам, противостоявшим власти фашистской Германии, и была потом узаконена Соединенными Штатами. Закон, внесенный Рузвельтом, был утвержден и действовал с марта 1941-го. По Черному морю тем летом 1945-го доставляли в Одессу не только продовольствие, но и оружие, самолеты и запчасти, поскольку всеобщего мира добиться пока не удалось, японцы до сих пор сопротивлялись. Возвращаясь обратно, эти колонны везли с собой пленников, уроженцев запада Европы. К нам с визитом приезжал генерал Кениг, а в это время де Голля, принимавшего живейшее участие в окончании нашего тяжелого и долгого изгнания, с большой помпой встречал Сталин. А мы — мы ждали возвращения на родину с нетерпением, которое возрастало с каждой минутой. Но морем отправляли в час по чайной ложке, очень редко, набережные вечно были битком набиты людьми, чье ожидание казалось нескончаемым. Чтобы мы могли потерпеть еще, нам устраивали приводившие нас в отчаяние ложные отправки с табличками, которые приходилось вешать себе на шею.
И вот однажды, уже в который раз, я стоял на набережной с табличкой на шее, гласившей, что я «Пьер Селль из округа Бельфор». Но в последний момент прибежал офицер, отменил приказ, и нас высадили с корабля, который с минуты на минуту отплывал в Марсель через Сардинию. Пришлось пропустить вперед нескольких женщин, которые прошествовали прямо перед нами и заняли наши места. Кое-кто из них был на сносях, конечно, жертвы сексуального насилия со стороны агрессоров. Но были и такие, кто заходил на корабль со страхом, ибо их по прибытии наверняка остригли бы наголо. Приведенные этим в ярость, мы в тот вечер с досады пели в наших палатках женоненавистнические песни. Раздавались даже призывы: «Сбросить в море всех этих баб!»
Только позже узнали мы, что этот корабль нарвался на мину в проливе Дарданеллы и никто не остался в живых. Уведомленные властями, что я буду репатриирован именно на этом корабле, мои родители, прочитавшие новость в газетах, были уверены, что я трагически погиб в морской пучине.
Потом кончился ленд-лиз, а мы все еще были там. Сперва пошел слух, потом превратившийся в уверенность: для нас не было корабля. Это вызвало у меня ужас, тем более что в лагере теперь царила досада и назревал бунт. Тогда нам объяснили, что нас все-таки вернут на родину, но другим путем: на поезде, через Румынию, Германию, Нидерланды и затем Бельгию. И снова тысяча километров, только в другую сторону.
Вот так я все-таки вернулся домой. Помню, что в Голландии нас угощали яблоками, а на французской границе, у Блан-Миссерона, поднесли четвертушку красного винца. По мере того как мы все ближе подъезжали к милой нашей французской столице, пропускной контроль становился все строже. На наших глазах опять арестовывали коллаборационистов. Люди опять умирали в дороге.
И вот наконец Париж. Не могу описать своих чувств, когда нога моя коснулась парижской земли. В этот день, 7 августа 1945-го, нас направили в лицей Мишле, чтобы записать имена, зарегистрировать наши документы и завести медицинскую карту. Еще мне выдали карту репатрианта. Я смог дозвониться до своей дорогой парижской крестной матушки, которая была уверена, что я утонул в Дарданеллах. Начальство разрешило мне провести первый вечер во Франции именно у нее. Я позвонил родителям, которые тоже считали меня погибшим. Сказал им, что теперь уже совсем скоро смогу приехать и крепко обнять их.