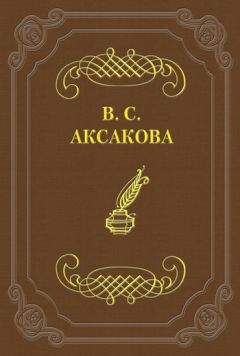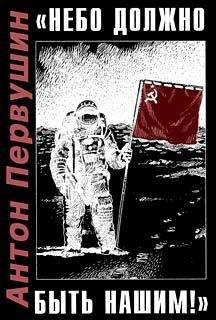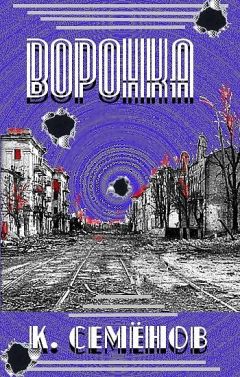Петр Бартенев - Воспоминания
В начале 1853 года поселился я в Москве на Малой Лубянке в доме III-й гимназии в меблированных комнатах, которые содержал Француз Haldy, вместе с П. А. Безсоновым. Мы занимали две комнаты с небольшой прихожей; его была дальняя, моя проходная. Несносен он был очень, поздно возвращаясь и тем будя меня. Чай и сахар у нас был общий в шкатулке, от которой ключ был у меня. Однажды я куда-то ушел, а ему захотелось не в урочный час чаю; прихожу: шкатулка сломана и сломана моею же бритвою, которая от того испортилась. Я должен был с ним расстаться и весной нашел себе комнату в игрушечном магазине против манежа в доме тогда Торлецкого, ныне князя Гагарина. Этот магазин держал старик Трухачев с двумя своими дочерьми. Моя комната о 2-х окнах выходила в сторону манежа, но магазин в 9 часов запирался и чтобы не выходить через грязный двор, я вылезал на площадку из окна. Мои посетители этим же путем являлись ко мне, к негодованию Трухачевых и полиции. И еще до отъезда к брату ездил я на Девичье поле к Михаилу Петровичу Погодину, который стал благоволить ко мне с самого времени моего студенчества. Он, узнав от Шевырева про мою работоспособность, однажды навестил меня в рабочей моей келье, просидел довольно долго и вслед за тем прислал ко мне целый воз своего «Москвитянина», который он издавал с 1841 года. В благодарность я составил указатель статей «Москвитянина» по истории Русской, этнографии и по истории Русской словесности. Указатель этот я напечатал во «Временнике»[59] общества Истории и Древности, откуда дали мне несколько оттисков, один из коих повез я к Погодину и был встречен бранью и криками: «Как же Вы смели со мною поступить так? Глядите: напечатано „Указатель к Москвитянину“, а не поставлено, кем он издавался?» Я благодушно отнесся к этому крику. Потом было у меня с ним еще столкновение: я поместил в «Москвитянине» какую-то статью мою о Жуковском, и он мне за нее вынес всего 6 рублей. Тогда я положил себе правилом не иметь с ним никаких денежных сношений, и мы до конца дней его (1875 г. декабря 8-го) оставались в наилучшей дружеской связи, простиравшейся и на наше семейство. Я от всей души полюбил его, и он ценил мое трудолюбие и любознательность, называя меня за мои расспросы «дразнилкою». «Когда льют колокол, говорил он, то бросают в растопленную медь кусочки дерева, необходимые для того, чтобы к ним собирался всякий сор и медь становилась чище; эти деревяшки называются дразнилками. Так и к вам прилипает всякая библиографическая мелочь». По возвращении моего от Шевичей Погодин советовал мне заняться биографией Жуковского 12 апреля 1852 года, прибавляя, что это будет угодно Государю. Чтобы собрать сведения о Жуковском, дал он мне кургузую записочку к Авдотье Петровне Елагиной, которая жила тогда близ Арбатской площади на Пречистенском бульваре во 2-м этаже довольно большого дома Шеншиной.
Знакомство с Елагиными принадлежит к немногим вполне счастливым обстоятельствам моей жизни. Я полюбил их от всего сердца, и эта семья сделалась мне как родная. Пришел я к ним весной 1853 года поутру, в большой зале встретила меня полу-старушка без чепчика, она расхаживала по комнате, очевидно уже напившись кофе, который стоял приготовленный для остальной семьи. Она состояла тогда из двух сыновей и девицы в летах, Марии Васильевны Киреевской, дочери от первого брака. Вскоре вышла к кофе Екатерина Ивановна, жена старшего из Елагиных, Василия Алексеевича. Она была высокого роста, сухощава, бледна, вовсе некрасива. Она месяца два перед тем произвела на свет первое свое дитя Алешу – утеху всей семье. Муж ее преисполнен был к ней привязанностью. Рассказывали потом, что однажды, когда она была больна и лежала в постели, он, боясь ее беспокоить скрипом двери, влез в комнату через окошко. Вообще он был чудак; однажды шел он по Маросейке недалеко от Лютеранской кирки, и встретившийся ему Немец принял его за пастора и спросил, когда начнется служба. Он был необыкновенно начитан, человек самых благородных побуждений, но в политическом отношении завзятый либерал, что, может быть, происходило оттого, что его отец, Алексей Андреевич, был сослуживцем во время Наполеоновских войн и другом декабриста Гавриила Степановича Батенкова. Кроме того, когда Василий Алексеевич подрастал, у них в доме бывал поэт Мицкевич, и в Польский мятеж сочувствия Василия и брата его Петра Васильевича Киреевскаго были на стороне Поляков.
Он выучил и жену свою по-польски, и они читали Мицкевича, о чем, впрочем, узнал я после их смерти, тогда как я с самого отрочества моего относился к Католичеству и Полякам почти враждебно. Брат Василия, Николай Алексеевич Елагин, был, напротив, человек трезвого ума и с большою наклонностью ко всему изящному и художественному. Образование обоих прошло под воздействием их двух старших братьев, Ивана и Петра Васильевичей Киреевских, из которых первый женат был на Наталье Петровне Арбеневой, которую и Свербеев называл Канальей Петровной. Это была, действительно, ложка дегтя в прекрасной чаше меду, которую представляла собой семья Елагиных. У нее все было напоказ и говорила она не иначе, как с ужимками. Муж покорливо нес ее иго. У них было три сына и две дочери; я зазнал их прекрасными детьми, но матушка сумела всех их пятерых испортить и к концу своей долгой жизни напечатала в газетах, что сын Сергей ее обокрал. О старшей дочери надоедала она Жуковскому, чтобы ее взяли во двор фрейлиной, а когда это не удалось за отъездом Жуковского в чужие края, то поместила ее в Вяземском женском монастыре и добивалась для нее игуменства. Дочь разорвала эти путы и, выйдя замуж за какого-то незначительного человека, жила особо от семьи и от родных. Младшую дочь выдала она за некоего Волхонского, смирного и влюбленного человека. Я случайно был на этой свадьбе в церкви на Остоженке близ Лицея. Жених плакал во время совершения таинства, невеста улыбалась, а матушка, стоя близ царских дверей, имела вид торжественный. Не прошло и году, как после рождения ребенка она перессорила дочь свою с мужем ее, а внука-мальчика рядила как совершеннолетнего и раз привезла его к прабабушке во фраке, белых перчатках, в круглой шляпе, что было очень противно видеть. У них в доме Авдотьи Петровны, где они жили только одни, собирались по воскресеньям вечером. Я нередко бывал там, любя и уважая Ивана Васильевича, которого беседа, как и произведения, всегда была не только умна, но и художественна. В последний раз я видел Наталья Петровну у богатой и благочестивой старушки. Она вымогала у нее денег и умильно целовала ее в плечо. Это был Тартюф в юбке. Когда летом 1856 года умер в Петербурге ее муж, я немедленно поехал к Авдотье Петровне в ее Петрищево Белевского уезда, от которого в нескольких верстах находилось село Долбино Киреевских. Я должен был поехать в Долбино навестить вдову в ее вдовстве, и что же – она вышла ко мне в амазонке, в какой-то черной шапочке, с хлыстом в руке. «Теперь я вольная птица», сказала она мне. С тех пор я уже никогда больше не бывал у нее. Много горя приняла от нее Авдотья Петровна, которая из всех своих детей наиболее любила ее мужа, своего первенца, и, действительно, он был в семье самый даровитый, почти гениальный человек. Младшего его брата, Петра Васильевича, еще до знакомства моего с их матерью встретил я однажды у А. С. Хомякова. Он ходил в какой-то венгерке, волоса обстрижены в кружок, в одном кармане трубка с табаком «Пан Табачинский», в другом «Пани Спичинская», т. е. спички и мешок для выбиваемой из трубки золы. Он изумил меня тотчас же, как зашла речь о Петре Великом, называя его совершенно спокойно не иначе, как чертом. Много позже, за границею, прочел я книгу Ренана об Антихристе, доказывающую, что этим именем первоначально называли христиане Нерона за его мучительства. И действительно, Петр Великий мог казаться нашим предкам тоже Антихристом: недаром по его приказанию первенствующий пастырь церкви Стефан Яворский сочинил и напечатал книжку «Об истинном пришествии Антихриста». Подданых надо было разуверять, что Царь их не Антихрист. Петр Васильевич, вставая с постели, спрашивал слугу своего Самойлу: «Погляди в окно, не начали ли бить Немцев?» И это не в шутку. Между тем он был человек обширнейшего образования и начитанности, знал он много языков и перевел с Английскаго книгу Вашингтона Ирвинга о Магомете, которую я в 1857 году напечатал для Русской Беседы. Нрава он был самого кроткого, но лень в последние годы одолела его, и он затруднялся написать самое простое письмо и для сокращения писания придумал в начале писать хам, хам, хам и в конце тоже, поместив в середине то, что было ему нужно, и затем подписав свое имя. Собирался он в дорогу по целым неделям. В Москве же жил только по зимам, сначала в собственном доме на Остоженке, а большую часть года проводил у матери, у брата в их поместьях и в своей Киреевской Слободке под Орлом, ныне купленной Валерием Николаевичем Лясовским у его племянника Сергея Киреевского. Там я гостил у него почти целую неделю. Полевым и домашним хозяйством занимались живший с ним землемер и его семейство; сам же Киреевский довольствовался очень скудной пищею. Я у него почти что голодал, и тем не менее в беседе с ним чувствовал себя как нельзя лучше. Заслуга его перед Россиею в собирании народных песен. Впоследствии он разъезжал по разным местам и в разные губернии для их записывания и как говорил, потерял однажды чемодан, в котором находились записки одного из его предков про времена Петра Великого, конечно осудительные. Сам Петр Васильевич издал только один отдел собранных песен, это так называемые «духовные стихи», и издал превосходно, выбравши из разных списков то, что было наилучшего. Для этого надо было иметь особую опытность и художественное чувство. Я еще помню, как в Москве в Охотном ряду великим постом старик крестьянин на возу, привезенном с каким-то товаром, медленно и благоговейно распевал стих об Алексее Божьем человеке. Петр Васильевич так любил брата Ивана, что пережил его всего четыре месяца. Он был очень дружен также со сводным братом своим Василием Елагиным и его женою Екатериною Ивановною, которая по его кончине не задумалась уплатить его долги из полученного ею наследства после Александра Павловича Протасова.