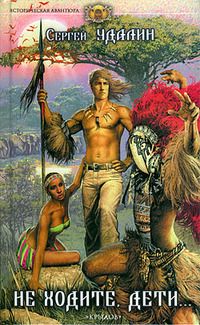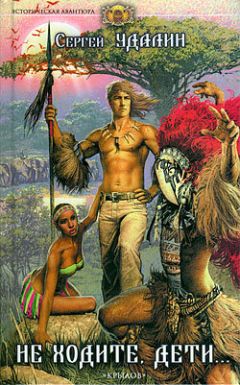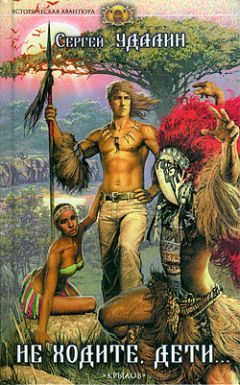Зинаида Чиркова - Вокруг трона Екатерины Великой
Великая княгиня неслышно подплыла к нему, и первый их поцелуй здесь, в Ораниенбауме, был целомудренным и коротким.
Потом Понятовский прильнул губами к её белой округлой руке и снова удивился её изяществу и совершенной форме. Нет, сама Екатерина лицом не была слишком уж хороша, его правильный овал портил острый, выдающийся вперёд подбородок, но и это словно бы придавало ей пикантность, вносило нечто индивидуальное в её облик.
— Ах, какие же ручки, — сладко прошептал Понятовский, целуя один за другим длинные тонкие пальчики Екатерины, — ни у одной из местных дам не встречал я такой совершенной формы, такой белизны и изящества...
— А ведь много пришлось перецеловать дамских ручек, — засмеялась Екатерина, — и все вы, дамские угодники, ввели в моду этот обычай — целование руки. А так, если бы по старым русским обычаям, вы даже и не увидели бы обладательниц ручек, вас бы и в терема не пустили, не то что танцевать на балах и отпускать комплименты на куртагах...
Слова её словно бы отрезвили Понятовского, её немного ироничный, насмешливый тон будто вылил ему на голову ушат холодной воды. Однако он не подал и виду и продолжал любоваться её руками, целуя их до самого локтя, благо рукава у капота были такие широкие, что позволяли делать это.
И Екатерина поняла, что тон её, пожалуй, вовсе не годился для этого опасного свидания.
— Вас никто не видел? — уже совсем другим голосом, нежным и мягким, спросила она.
— Если бы кто и напал на меня, при мне моя шпага, — горделиво выпрямился Понятовский.
— Императрица усилила охрану, она теперь очень боится за свою жизнь, — уже серьёзно объявила Екатерина. — С тех пор, как появилась на небе эта волосатая комета, она не перестаёт думать о своём последнем часе и страшится...
— Но ведь комета была предсказана Галлеем, и предсказано, что появится она именно в нашем, пятьдесят восьмом году, — подхватил Понятовский, и опять Екатерина уловила, что они говорят на одном и том же языке, что им не надо объяснять друг другу простейшие вещи, о которых многие дворцовые приближённые не имели понятия.
Они разговаривали на французском, и красота и изящество этого языка ещё больше сближали их, поскольку они читали одни и те же романы, одни и те же философские сочинения и нередко цитировали одни и те же изречения. Им было легко и свободно говорить друг с другом, они понимали все мысли собеседника. При дворе это была большая редкость, и Екатерина очень ценила Понятовского именно за эту начитанность и образованность, широту взглядов, которой обладала сама.
Их любовь была нежной и тонкой, была даже больше игрой, чем настоящим глубоким чувством, но Екатерина так дорожила ею, что с яростью отстаивала Понятовского, которого уж столько раз пытались отослать домой, словно нашалившего ребёнка, — его влияние на дела европейской политики не сказывалось явно, но влияние на наследницу престола, вернее, на жену наследника престола виделось уже определённо...
Ужин, такой поздний для влюблённых, не был оценён по достоинству, куриные крылышки были лишь едва пощипаны, фрукты слегка надкусаны, зато удобная широкая постель стала местом для многих нежных часов.
Неяркий сумрачный рассвет высветил опочивальню Екатерины, когда Понятовский выскользнул из её объятий и поспешно оделся.
Надо было уйти так же незаметно, как он и пришёл, и потому Екатерина сонно помахала ему рукой и не стала прощаться у двери и вызывать Владиславову, как делала это обычно в Зимнем.
Станислав сам приоткрыл дверь и, увидев дремавшую в кресле Владиславову, не захотел будить её, а неслышной лёгкой тенью скользнул в общую приёмную великих князей. И понял, что зря пожалел статс-даму...
Большинство голов голштинских солдат, назначенных в эту ночь охранять покой Петра, наследника царского трона, уже поднялись и угрюмо оглядывали пустые бутылки, грудой стоявшие на столе. Там ничего не осталось, и внимание солдат обратилось на Понятовского, странную фигуру, закутанную в тёмный плащ и с большим париком на голове.
Тотчас двое-трое солдат с дикими криками устремились к Станиславу. Он и не думал сопротивляться, зная, что крики сразу привлекут внимание самого великого князя или Екатерины. Он успокаивающе приложил палец к губам, давая понять, что он вовсе не чужой здесь человек, всем своим видом выражая миролюбивые помыслы, но его тонкая дипломатия не имела никакого успеха. Солдаты не знали Понятовского, их особенно беспокоил его тёмный плащ до пят, и скоро руки Станислава оказались скрученными за спиной, а шпага отобрана и в качестве вещественного доказательства торжественно внесена в покои Петра.
Великий князь ещё не ложился — всё в его апартаментах говорило о весёлой пирушке, которую не разогнал даже рассвет. Вся огромная зала была битком забита табачным дымом от трубок, которые курили все приглашённые и даже Елизавета Воронцова, нынешняя пассия великого князя.
Солдаты втолкнули Понятовского в залу, поставили прямо перед великим князем и буркнули ему несколько слов на грубом немецком диалекте, который хорошо понимал Пётр.
Великий князь мгновенно протрезвел, шальная улыбка сбежала с его неказистого лица, оно покрылось холодным и липким потом, и бледность отметила страх, охвативший сердце Петра.
— Ты пришёл убить меня? — закричал он в испуге.
Понятовский стоял перед великим князем, не зная, что отвечать, как растолковать, что он не убийца, не разбойник. Очевидно, только самому Понятовскому казалось, что тёмный длинный плащ скрывает его намерения. Другие сразу решили, что он виноват в чём-то, если так маскируется.
— Что вы, ваше высочество, — тихо ответил по-французски Понятовский, — у меня и в мыслях этого не было...
У Петра отлегло от сердца. Если человек так разговаривает на французском, если голос его так изящен, не может же быть, что он злоумышляет. Но страх всё ещё держался в душе великого князя, и потому он продолжал сурово допрашивать Понятовского:
— Зачем ты ворвался во дворец в такое неурочное время, зачем обвязал себя шпагой, для чего ты злоумышлял на мою царственную особу?
Пётр суетливо бегал вокруг закутанной в плащ фигуры Понятовского, злобно кричал, не давая себе труда вслушиваться в ответы обвиняемого, брызгал слюной. Его царская особа представлялась ему столь же драгоценной для русского народа, сколь и для него самого.
Понятовский стоял перед великим князем, глядел на его вытаращенные, красные от вина глаза, чувствовал его страх и молча досадовал, зачем не разбудил Владиславову, зачем отказался от услуг статс-дамы, теперь не было бы этого столь же нелепого, сколь и опасного для его жизни обвинения.