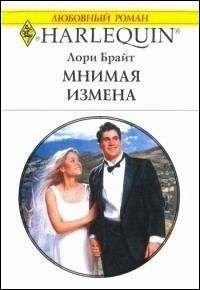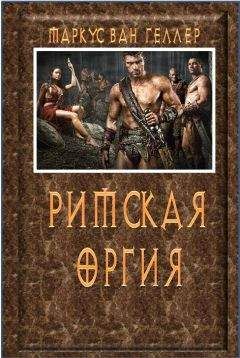Николай Морозов - Повести моей жизни. Том 2
Моя темничная комната во внутреннем дворе Коломенской части казалась мне теперь такой далекой и в то же время такой тусклой, темной, неприветливой. Мне вспоминался мой заботливый сосед Кукушкин. Все там уже знают теперь, что меня увезли, и им чувствуется, верно, еще тоскливее от моего отсутствия. Совсем как в могиле.
Они не сознают, что здесь уже весна, что природа пробуждается и солнце зашло за горизонт так же пышно, как бывало и при них.
Мне вдруг вспомнились стихи Пушкина:
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять![11]
— Вам не надо ли взять кипятку на следующей станции? — спросил меня унтер, сразу рассеяв мои мысли.
— Возьмите! — сказал я, так как у меня осталось еще значительно и чаю, и сахару из запаса, переданного мне Кукушкиным. — Заварите и себе из моего запаса.
Жандармы сделались разговорчивее. Двое из них оказались украинцы и один из средней России, все грамотные, но ни один из них ничего интересного не представлял.
Я подождал, пока спустившиеся сумерки позволили мне различить первые звезды — это были Вега и Арктур, — и затем я лег спать, скрючив ноги на моей коротенькой скамеечке. Я хотел выспаться до наступления полуночи, чтоб бодрствовать потом в надежде, что мои сторожа задремлют и мне можно будет выскочить из вагона на одной из станций. Но мои расчеты не удались: дремали только двое, садясь против меня, а третий по очереди стоял у дверей, прислонившись к ней спиною, чтоб лучше сторожить. Они менялись каждый час, и ни на минуту не заснули все трое вместе. К вечеру следующего дня мы уже подъезжали к Москве, и я начал снова прощаться с природою через окно своего вагона.
На платформе московского вокзала нас встретила толпа предупрежденных местных жандармов, и, усадив в карету, меня повезли, не сказав куда. Но улицы Москвы мне были хорошо известны, и я видел их мимо края занавески.
Я приехал на ту самую Театральную площадь, где когда-то встретил своего друга Саньку Лукашевича под видом мастерового, продающего ворованную фуражку, а между тем наблюдающего за заключенными, привозимыми сюда на допрос. Меня высадили в воротах находившегося тут и теперь давно уничтоженного здания, где было Жандармское управление.
Мельком я оглядел эту площадь, но на ней не было теперь никакого наблюдателя из моих друзей. Мои провожатые, как и прежние, сдали меня, как товар, под расписку дежурному жандармскому офицеру, который, не сказав мне ни слова, велел унтер-офицеру отвести меня в одну из камер. Это были оригинальные камеры. В большой комнате сделана была посредине высокая дощатая перегородка, выбеленная известкой, от одного конца комнаты до другого. В ней были две двери, запирающиеся снаружи на толстые железные задвижки, и вели они в две камеры, внутренние стены которых не доходили до потолка.
Я прислушался. В соседней камере явно никого не было. Я был один во всем этом помещении. Как я ни ослабел от голода в продолжение месяца своего заключения, но я чувствовал, что, подпрыгнув и схватившись руками за край своего забора, я могу перескочить через него в отгороженный коридор, где звеня шпорами, ходил часовой.
«Но он не пустит меня дальше, — думалось мне. — Надо ждать, когда задремлет».
И вот я снова не смыкал глаз всю ночь, и снова совершенно напрасно. Через каждый час сменялись часовые, и звук их шагов не прекращался ни на минуту.
Совершенно утомленного и голодного, так как мне здесь ничего не дали ни пить, ни есть, меня повели около полудня на допрос в один из приспособленных для этого кабинетов.
Какой-то высокий и толстый жандармский полковник спросил меня:
— Вы были прошлой весной в имении Иванчина-Писарева?
— Нет, я его совсем не знаю.
— Вы работали в сапожной мастерской, устроенной революционным обществом здесь, в Москве?
— Никогда! — ответил я, верный своей системе, с одной стороны, не раздражать врагов напрасно, а с другой — не говорить им ни слова правды.
— Все равно вас уличат! — сказал мне полковник спокойно.
Он позвонил и сказал вошедшему унтер-офицеру:
— Скажите, чтоб привели сюда финляндца![12]
«Хотят устроить очную ставку! — пришло мне в голову. — У него даже все подготовлено для этого. Значит, ему сообщили заранее из Петербурга, что я сам ничего не расскажу. Что-то скажет наш славный, честный сапожный мастер?»
Раздалось бряцание шпор, и вот между двумя солдатами с обнаженными саблями появился и он сам, или, скорее, его бледная шатающаяся тень. Его щеки ввалились, под глазами были синие пятна. Волосы на голове и бороде давно не были стрижены.
— Вот ваш ученик! — сказал ему, вставши при этом, полковник грубым повелительным голосом. — Узнаете?
Бедный мастеровой, с которым, как непривилегированным человеком, без всяких связей, явно не стеснялись, смущенно и вопросительно взглянул на меня, как бы желая узнать, признал ли я его сам.
Кинув на него с равнодушным видом мимолетный взгляд, хотя мое сердце и обливалось кровью, я стал смотреть на стену в сторону от него.
— Смотрите, пожалуйста, прямо! — сказал мне полковник.
— Куда? — спросил я, глядя на самого офицера.
— Вы знаете куда, прямо на него! — заметил он с явной досадой.
Но бедный финляндец уже понял, что я его не хотел узнавать, и со слезящимися глазами ответил:
— Нет, его не было в мастерской.
— А как же другие говорят, что был? — сказал повелительно полковник.
— Я не помню такого, — проговорил финляндец уже решительным тоном.
— А вы знаете его? — обратился вдруг ко мне раздосадованный своей неудачей жандармский полковник.
— В первый раз вижу, — твердо ответил я.
По его кивку жандармы увели обратно финляндца, который печально взглянул на меня, как будто предчувствуя, что мы больше не увидимся. И предчувствие не обмануло его: через год после этого он умер, как Кукушкин, от чахотки в темнице, не дождавшись суда.
Полковник сказал мне после его ухода:
— Все равно ваше участие будет доказано. Сейчас с вас снимут фотографию.
Меня вывели на двор, где уже стоял какой-то фотограф с готовым аппаратом, и он сделал с меня три снимка.
После этого меня вновь ввели в зал для допросов, где полковник задал мне тот же вопрос, который я получил и в Петербурге: