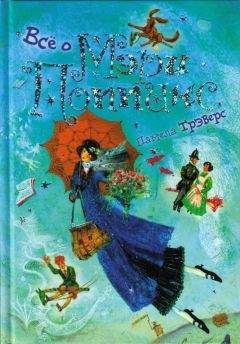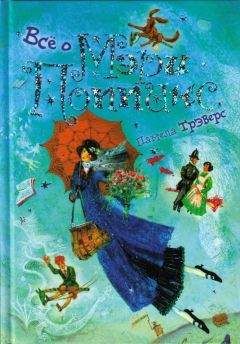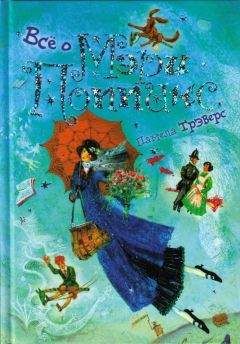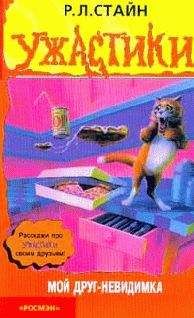Леонид Леонов - Взятие Великошумска
- Считай то место, Вася, где ты находишься, за самую главную точку на земном шаре... а все остальное - только прилежащие окрестности. И думай, что нет тебя важней во всемирной истории, которая тебе это самое дело поручила. Потому что история, милейший Вася, это тоже танк... держи крепче руки на рычагах!
Остальное - как натянуть сбитую гусеницу в бою или отремонтировать сцепление - Литовченко знал и сам. Все же, для проверки, Собольков в первый же день приказал ему завести мотор на двести третьей, только что вышедшей из ремонта, и провести машину через заранее намеченные препятствия... Танк плавно поднялся из капонира, слегка встав на дыбки, как бы учуяв волю нового хозяина, и все отметили, что водитель не помял вишенки при этом, стоявшей по левому борту. "Ничего, подходяще... действуй так!" одобрительно молвил Обрядин, словно Литовченко мог слышать что-нибудь за гулом своего железа. С высокой церковной паперти экипаж следил, как, перевалив канаву, танк вошел в поле, спустился в указанную балочку, пропал на минуту, и когда все решили, что заглох у него мотор, с дельной сноровкой принялся карабкаться вверх по крутой и вязкой глинке; утром прошел дождь, всюду солнце сверкало в лужах... Обратная дорога была прямая, согласно условию, Литовченко дал полный газ. В сущности, испытание закончилось. Обрядин полез за табачком. Покачивая пушкой, не сбавляя скорости даже в виду села, машина неслась обратно, когда одно непредвиденное обстоятельство заставило умолкнуть всех, даже ребятишек, собравшихся в изобилии насладиться зрелищем гонки.
Улицу переходил котенок. Никто не обратил внимания, как он появился на пути танка. Осторожно, стараясь не запачкать лапок, он перебирался через изрезанную колеями дорогу. Грохот приближался, но котенок не ускорял походки; состоя в коротком знакомстве со всей бригадой, он чувствовал себя в доброй безопасности; хромота на левую заднюю ногу также замедляла его путешествие. Зверь был явно нестоящий, его и разглядеть трудно было за пластами глины, а водитель торопился завоевать доверие экипажа. Стало поздно спасать котенка или хотя бы кинуть щепкой, если бы нашлась поблизости. На мгновенье все как бы выросли на вершок, и тогда Литовченко сработал рычагами, ловко, как пулю, провел свои двадцать восемь тонн в узкий промежуток между ветхим колодцем и дурашливым существом, невозмутимо продолжавшим прогулку... Это и был Кисo, пятый, сверхштатный, член экипажа.
Если бы не война, где особо ценят всякое проявление жизни, Кисo не сделал бы такой карьеры. Был он головаст, кошачьей грацией или подхалимством не обладал и вдобавок отличался крайне непрактичной бело-рыжей мастью. За ухом у него образовалось несмываемое пятно от ласкательных прикосновении танкистских пальцев. В штаб корпуса эта смешная фигура пришла из сожженной деревни, где еще дымились головешки, - ее последний житель, вышедший приветствовать освободителей! Нельзя было немцам ни сожрать его, ни угнать на каторгу, и, видимо, убийца пожалел на него патрона. Кто-то сунул зверя за пазуху, скорее для забавы, чем из милосердия; через неделю ему подбили ногу при бомбежке на Кромской операции, а фронтовики умеют окружать незаметной и трогательной заботкой всякого, кто делит с ними опасности военного существования. По-видимому, новое его имя было образовано из слова Кацо - друг. Кисo быстро сдружился со всеми и если не дремал на кухне, обдумывая очередные мероприятия по борьбе с мышами, от которых в том году приходилось даже окапывать землянки, то изучал окрестность, навещал в непогоду часовых или запросто заходил в штаб посидеть у главного хозяина на карте. Лично ему больше всего нравилось, чтобы член военного совета гладил его своей пятерней, способной привести в замешательство любого нибелунга. Однако после того как Кисo, решив поделиться с хозяином добычей, разложил у него рядком на байковом одеяле шесть штук безжизненных мышей, его постиг гремучий гнев богов. Случилось это ровно через сутки после обрядинского падения: они как-то снюхались в тот горестный вечер, и оба решили, что штабная работа не соответствует их деятельным натурам. К сожалению, Кисo малярией не болел и с негодованием отверг те пять капель обрядинского лекарства, которые башнер якобы пытался влить в горло приятелю. Впрочем, иные шутники по-другому объясняли происхождение царапин на обрядинском лбу: Обрядин покидал на селе двух красоток разом.
С тех пор Кисo поселился на боеукладке, в пушистой шубе одного немаловажного итальянского чина, сбиравшегося присоединить к Италии Сибирь. Не загадывая вперед, кто приютит его, хромого и безродного, по окончании войны, Кисo участвовал во всех операциях корпуса и через Днепр переправлялся сквозь такой шквал огня, что танкисты предполагали выдать ему голубую ленту на хвост... До него в любимцах двести третьей состоял медвежонок, оказавшийся непортативным в условиях походного существования. Его целую неделю с успехом заменял один беспризорный гусь, Петр Григорьич, но, как на грех, тут подоспело празднование по поводу вручения гвардейского знамени, а дружба человека с гусем всегда носит несколько односторонний характер; к тому же Петр Григорьич был ужасный крикун... Кисo содержал в себе достоинства, отсутствие которых в такой степени повредило его предшественникам. Вдобавок, будучи философом, он разбирался в людях; так, он не одобрял порывистых замашек стрелка-радиста, зато очень ценил в механике-водителе его склонность к раздумьям, позволявшую подолгу сидеть на его теплом, удобном колене... И в ту ночь, в канун последнего боя двести третьей, едва Обрядин ушел наверх сменить Дыбка, Кисo немедленно перебрался под шинель к Литовченке.
Тот спал неспокойным сном. Вереница людей в чужой зеленоватой одежде уходила от него в обратную сторону; он видел ее из танка с расстояния, как раз необходимого для разгона. Сердце немело от ненависти, а нога судорожно выжимала полный газ, но никакая сила не могла сдвинуть пристывшего к месту железа... Обветшалый накат землянки, источенный мышами, пропускал влагу. С вечера никто не заметил капели. Вещевой мешок под головою просырел с одной стороны. Литовченко открыл глаза и сел на нарах. Рядом неслышно спал Дыбок, такой же подтянутый и статный, словно и во сне взбирался по ступеням большой жизни. Тягостный мглистый свет утра пробивался в продолговатую щель окошка, окаймленного снежком. Освещение было недостаточным, и горела свеча. Огарок стоял между квадратным зеркальцем и лицом Соболькова, который брился. Он совершал это старательно и не спеша, следуя правилу: любое дело исполнять так, как если бы в ту минуту оно было самое важное на свете. Он слегка улыбался при этом, словно видел что-то дополнительно в стекле, тесном даже для его собственной щеки. Как всегда, он поднялся раньше всех, и уже посвистывал чайничек на печке, сооруженной из немецкого бензобака.