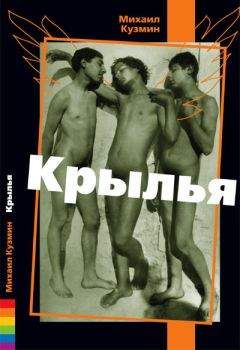Георгий Чулков - Современники
Не могу исключить из моего «Помянника» Алексея Михайловича Ремизова, стяжавшего себе славу хорошею повестью «Крестовые сестры»[21]. В начале наших биографий что-то у нас было общее. Я свои первые рассказы печатал в московской газете «Курьер», и Ремизов, кажется, также впервые там напечатался[22]. И он и я были в ссылке: он в Вологодской губернии одновременно с Н.А. Бердяевым[23], П.Е. Щеголевым[24] и А.В. Луначарским[25], а я – в Якутской области. В редакции «Весов», где революционеров вовсе не было, наши имена повторяли вместе. Чулков и Ремизов как ссыльные составляли особую литературную пару. Впоследствии, разумеется, нас разглядели внимательнее, и мы, счастливые, получили, наконец, желанный нам обоим развод.
А.М. Ремизов, в противоположность натуральному и непосредственному С.М. Городецкому, весь без остатка стилизатор и книжник. Тот, кто видел автографы А.М. Ремизова, вероятно, невольно обращал внимание на старинную витиеватость его почерка, совпадавшую с витиеватостью его стиля. Подобно средневековому художнику-писцу, Ремизов увлечен своею каллиграфическою работою; его радуют акварельные краски на миниатюрах заглавного листа, золото и киноварь прописных букв и тонкость искусных росчерков… Так стиль его пленяет изысканным своим узором. И язык его кажется самоценным. Подчас находишь удовольствие, рассматривая этот дивный ковер, сотканный мастером из вновь найденных слов, оборотов и периодов, и невольно наслаждаешься щедростью стилиста, независимо даже от содержания повести. Ремизов зачарован магией слов, им самим созданных. Открывается необъяснимая в своей сущности «самодеятельность» языка. Уже сама речь требует своего развития в определенном направлении в силу таинственных законов словесной музыки. Содержание подчиняется изысканной форме, иногда, быть может, в ущерб точности и ясности основной темы.
В «Лимонаре», в «Сказках», в «Посолони»[26] Ремизов прежде всего стилист, прежде всего искатель словесного клада, нередко счастливый. В поисках живых слов и оборотов Ремизов обращается к памятникам нашей древней словесности. Руководствуясь изысканиями Ф.И. Буслаева[27], Н.С. Тихонравова[28], А.Н. Афанасьева[29], А.Н. Веселовского[30], Е.В. Аничкова[31] и др. и внимательно изучая первоисточники, Ремизов с изумительным трудолюбием и с зоркостью филолога отыскивает все новые и новые сокровища. И самоцветные камни народной речи, словесные богатства сказок, песен, апокрифов сверкают и горят новыми огнями в золотой оправе искусного мастера. Ремизов обогатил наш словарь, нашел новые возможности в синтаксисе и по-новому открыл напевность нашей речи. Таковы формальные заслуги этого примечательного писателя.
Нелегко разгадать Ремизова как художника и приблизиться к пониманию его личности, и. быть может, еще труднее полюбить его. Невозможно не оценить его искусства, его мастерства, его оригинальности, но всем ли внятен его символизм, всем ли доступны его темы? Алексей Ремизов пришел к нам неспроста с лукавою улыбкою на утомленных губах. И его беседа, похожая на ряд загадок, не только пленительна, но и опасна своею мучительною противоречивостью. Ремизов-художник неоткровенен и несветел: он так же темен, многолик и скрытен, как Гофман. Бродить по лабиринту его творчества и утомительно, и трудно. Это не светлый сад, где легко дышится и где голос звучит ясно. Это запутанная система комнат и коридоров, где полумрак, где душно, где пахнет пряно и дурманно. Тусклое эхо повторяет жуткий смех под темными сводами. И от этого смеха сжимается в тоске сердце. Над чем он смеется – этот человек из подполья? Да полно, смех ли это? Балагурство неожиданно переходит в причитания, а причитания в горькие, сдавленные рыдания. И рыдания эти странные «без слез» сухие.
Алексей Ремизов не пишет статей, не рассуждает и не философствует – и это так естественно для его неоткровенного таланта. Тем примечательнее единственная его заметка, напечатанная в 1905 году в журнале «Вопросы жизни» по поводу книги Льва Шестова «Апофеоз беспочвенности»[32]. «Опыт адогматического мышления, – пишет Ремизов, – является гармонией афоризмов, возмутительных и циничных для ума, которого кашей не корми, а подай ему «систему», «возвышенную идею» и т. п. «De la musique avant toute chose»[33].
«…Этим знаменитым стихом заканчивается книга, которую можно было бы назвать прелюдией подпольной симфонии. Ведь в подполье, во мраке и сырости, вдруг загорается чудо и вереницами бродят привидения, и снятся безумные сны, и ломаются, как прутики, все категории… И еще есть в подполье странные окна через землю в иной мир. Найдешь – вырвешь разгадку тем тайнам, от которых на стену лезут, не знают, не догадываются, пребывая на лоне природы и шаркая в черных кафтанах по глянцам паркета. Найдет ли Шестов окна? – а может, закиснет в духоте и прели… а если найдет, скажет ли? – все равно – путь его верный. Не искусившись, не умудришься…»
В сущности этот полувопрос, обращенный к Льву Шестову, с таким же основанием можно задать и самому Ремизову: найдет ли он окна? не закиснет ли в духоте и прели?
Как человека я знаю А.М. Ремизова довольно хорошо. Нам довелось с ним жить в одной квартире в 1905 году, когда я принимал близкое участие в журнале «Вопросы жизни», а он был в этом журнале секретарем. Я прекрасно помню его комнату, столь жарко натопленную, что не всякий мог вынести такую ремизовскую температуру. На стенах висели кусочки парчи и старых шелковых тканей, пропитанные пряными и душными духами. На полочках торчали всевозможные кустарные игрушки. И сам хозяин, маленький, сгорбленный, с лукавыми глазами из-под очков, с непокорными вихрами на голове, казался каким-то добродушным колдуном, а может быть, и домовым, случайно запрятавшим свое лохматое тельце в серенький интеллигентский пиджачок.
А.М. Ремизов вечно кого-нибудь мистифицировал, вечно выдумывал невероятные истории, интриговал ради интриги, шутил и ловко умел извлекать из людей и обстоятельств все, что ему нужно, прикидываясь иногда казанскою сиротою. Хитрец порою любил пошалить, как школьник, – любил подшутить над простецом. Ему ничего не стоило, приехав в гости к какому-нибудь тароватому и зажиточному приятелю, незаметно придвинуть вазу со свежею икрою и уплести ее всю единственно для потехи, чтобы потом полюбоваться на физиономию хозяина, с недоумением взирающего на кем-то опустошенную посудину. Но должен признаться, что я не очень верил в веселость этого лукавого чудака. И от всех его шуток веяло на меня тоскою. Недаром древний мудрец сетовал на самого себя за то, что «без ума смеялся». И я никогда не ждал добра от этого надрывного подпольного смеха.