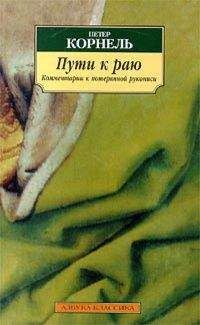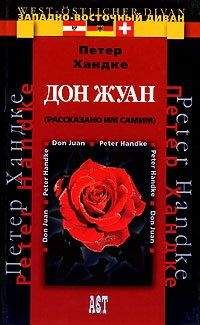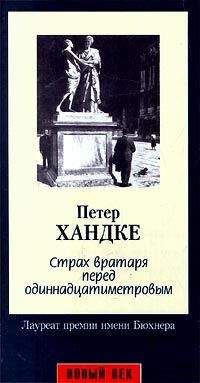Петер Вайдхаас - И обратил свой гнев в книжную пыль...
В нас что-то пробудилось. Тупиковость и зажатость сменились ощущением безграничного простора. Свобода перестала быть только литературной категорией, казалось, ее можно пощупать руками. Возможным стало все, что раньше было абсолютно невозможно.
Угнетенность ощущения быть немцем заставила меня довольно рано уйти из родительского дома. Осознание жестокости, творимой именем немецкого народа, и того, что ее творил сам народ, частью которого я являлся, стало для меня, подростка, неподъемным бременем и гнало прочь, заставляло без оглядки бежать отсюда и как можно дальше.
Я не хотел быть немцем, не хотел больше говорить по-немецки, не хотел учиться и кем-то стать, только чтобы не укореняться в этом обществе. Я бежал от всего. Бежал от этих серых, самодовольных людей в трамваях. Бежал от учителей. Бежал от тех, кто претендовал на авторитет в этой стране. Я бродяжничал по Европе, безостановочно ездил автостопом. И маршруты моего бегства пролегали через Францию, Англию, Испанию, Грецию и Турцию.
Когда же, обуреваемый внутренними сомнениями, я все же созрел до понимания, что профессию, однако, надо иметь — мое буржуазное воспитание одержало-таки верх, — мне удалось достичь этого только благодаря волевой самодисциплине, неизменно сопровождаемой тем не менее тоской и подавленностью.
Сегодня я смею утверждать, что лишь студенты 1968 года сумели вернуть нам самоуважение, решительно поставив под сомнение преемственность авторитетов в обществе, во многом восходивших к периоду нацизма, во всяком случае, идентичных по большей части с духовным наследием того времени.
Сексуальная революция 1968 года стала для нас, западных немцев, как ни относись к этому сегодня, своего рода освободительной культурной революцией, и многое из либерального багажа национального самосознания, символизировавшего собой Федеративную Республику Германии, берет начало в том бурном времени и, возможно, еще дает о себе знать и по сей день, проявляясь в том или ином качестве в условиях новой объединенной Германии.
Но не только это — революция шестьдесят восьмого вообще оказала на нас многостороннее воздействие, она стимулировала наше внутреннее раскрепощение. Мы избавились от ложной стыдливости. Уже не робели, как раньше, стали более раскованными, порой даже вели себя так, как это нас больше устраивало. То были новые и удивительные ощущения. Отпали вдруг все запреты, все рамки ограничений, открылись другие возможности, появилась радость жизни…
В то время я работал простым сотрудником в издательстве научной литературы Георга Тиме в Штутгарте. Там вдруг всех захлестнул, ломая перегородки отчуждения между отделами, единый коллективный дух, чего никогда раньше не было и чего наверняка нет больше сейчас. Мы тусовались денно и нощно. Держались все вместе, давая, когда надо, отпор начальству. Обменивались информацией, во всем помогая друг другу.
И тут, что называется в духе времени, я попросил моего друга Гельмута Гана, работавшего в правлении издательства и единственного из нас, у кого был доступ к «Биржевому листку немецкой книготорговли», подыскать мне несколько объявлений о найме на работу, чтобы я смог выбрать себе местечко в северном направлении от Штутгарта и устроиться там поработать — я собирался поехать к друзьям в Рурскую область и мог бы по пути посмотреть, что к чему.
Это не было серьезным шагом в заранее спланированной карьере. Правда, я видел себя в далеком будущем на руководящем посту в одном из издательств, но жизненные ощущения тех дней были скорее полны ожидания нового, желания освободиться от зажатости и скованности, нежели мыслей о целенаправленном скачке в карьере.
Предложений на ту неделю, когда я собрался ехать, было на удивление мало. В Хайдесхайме, в одном небольшом издательстве в швабской провинции, которое печатало в основном литературу по коневодству и конному спорту, требовался директор. А во Франкфурте Биржевое объединение германской книжной торговли искало «надежного и исполнительного» человека. Я отправился в Хайдесхайм, но, имея хорошие шансы получить там место, вернулся в Штутгарт, где сел и тут же написал отказ. Мое тогдашнее ощущение жизни требовало широты и простора. Работа же в Хайдесхайме завела бы меня в глушь швабской провинции. А с меня и Штутгарта было более чем достаточно.
Но Биржевое объединение? Разве могла привести к свободе дорога, пролегавшая через пользовавшийся дурной славой управленческий аппарат базисной в нашей книжной отрасли корпорации во Франкфурте? Меня так всего и передернуло.
— Нет, нет, — сказал Гельмут Ган, — давай двигай туда. Это не Биржевое объединение, а те, кто делает ярмарку. Просто сумасшедший народ! Попробуй, может, тебе понравится. Я туда тоже как-то ради хохмы документы подавал!
Ни я, ни Гельмут Ган в тот момент и не подозревали, что фразой «Это не Биржевое объединение, а те, кто делает ярмарку!» он обозначил круг проблем, которые полностью поглотят меня в ближайшие десятилетия.
Я поехал туда без всякого энтузиазма, только лишь потому, что так мне посоветовал Гельмут Ган, и потому, что Франкфурт был мне по пути. Ган оказался прав: «Просто сумасшедший народ!»
Когда я позвонил в дверь на Кляйнер-Хиршграбен, мне открыл Клаус Тиле, возглавляющий ныне небольшое издательство в Мехико, а тогда являвшийся руководителем отдела зарубежных выставок немецкой книги при Франкфуртской книжной ярмарке-выставке.
— Вы говорите по-французски? — первое, что спросил Тиле после того, как я представился.
Я ответил отрицательно. В школе французского у меня не было, правда, я как-то поизучал его годик между делом в школе Берлица, но о том, что я говорю по-французски, и речи быть не могло.
— Жаль, тогда у вас нет никаких шансов, — произнес он огорченно. — Наш шеф — франкофил и скорее всего захочет побеседовать с вами по-французски.
Ну что ж, по-французски так по-французски, не будем портить шефу удовольствие. Через несколько минут меня пригласили в кабинет, и, как и ожидалось, из-за большого письменного стола навстречу мне вышел сияющий Зигфред Тауберт и поприветствовал меня:
— Bon jour, Monsieur!
А вслед за этим он выплеснул на меня поток французской речи, от которой я оборонялся, вставляя, надеюсь, в правильных местах, только лишь: «Mais oui, Monsieur! Mais non, Monsieur! Naturellement, Monsieur!» (Да, месье! Нет, месье! Конечно, месье!) и т. д.
Я мало чего понял из того, что господин Тауберт в течение тридцати минут этого нашего первого разговора пытался мне объяснить. В несколько нервном состоянии я попрощался, не забыв, однако, получить командировочные в бухгалтерии у фрау Ленц. Действительно, чокнутые какие-то, подумал я и поехал дальше в Рурскую область, на этом вопрос с Франкфуртом был для меня закрыт.