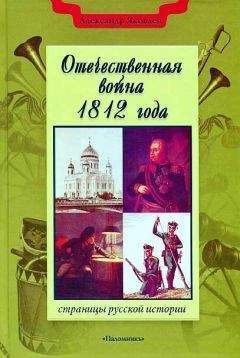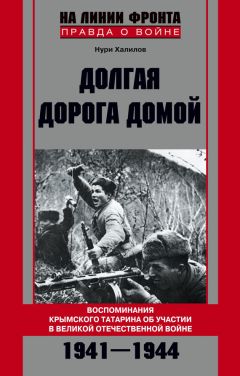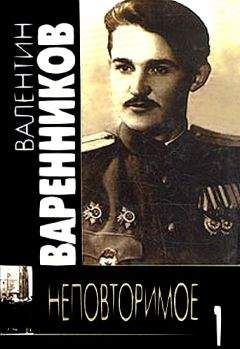Александр Крон - Вечная проблема
С тех пор прошли десятилетия, через мое сознание прошли десятки образов полицейских, созданных большими писателями предреволюционной эпохи Чеховым, Буниным, Горьким, Куприным. И когда я перечитываю то место в бунинском романе, где Алексей Арсеньев идет по улице "сзади широкоплечего, плотного полицейского пристава, не спуская глаз с его толстой спины в шинели, с икр в блестящих, крепко выпуклых голенищах", в моей памяти вспыхивают полувековой давности впечатления, делающие для меня бунинское описание почти физически ощутимым. Образ городового на перекрестке навсегда остался жить во мне как символ тупой нерассуждающей силы, и всякий раз, когда он всплывает из глубин моего сознания, для меня это сигнал о том, что в воздухе пахнет насилием.
* * *
За всю свою жизнь я всего два или три раза присутствовал при богослужении. И то в последние годы. Притом за границей.
Слушал хор мальчиков в церкви Св. Фомы в Лейпциге. Посидел четверть часа на литургии в соборе Парижской богоматери.
Но лейпцигский хор я слышал и раньше - в Большом зале Московской консерватории. И в церковь шел как на концерт. А знаменитый собор оказался до такой степени заполнен туристами из всех стран мира, что среди них совсем потерялись прихожане, и само богослужение выглядело театрализованной музейной экспозицией.
И когда я пытаюсь разобраться в причинах того внутреннего сопротивления, которое я ощущаю на пороге всякой церкви, все равно какой христианской, иудейской или магометанской, я в конце концов добираюсь до истоков в воспоминаниях раннего детства.
Дело в том, что в возрасте четырех примерно лет я довольно долго несколько месяцев - верил в бога.
Веру свою я получил не от предков. Мои родители были люди неверующие, состояли в гражданском браке, и мое появление на свет не было ознаменовано никакими религиозными обрядами. И отец и мать работали - пришлось нанимать домработницу, по-тогдашнему - прислугу. Случилось так, что одна из них оказалась религиозной фанатичкой. Она-то и задалась целью спасти мою душу, пока я еще не закоснел окончательно в грехе и неверии.
Теперь я уже не помню, как выглядела моя наставница. Но зато нарисованная ею картина грозящих мне адских мук оказалась настолько красочной, что врезалась в память навечно. Началось с того, что моя наставница - назовем ее Поля - повела меня в церковь. Не в ту почти деревенскую, во дворе которой играли все дети нашего переулка без различия вероисповедания, а в большой храм на Малой Никитской, где пел хор, а стены были расписаны картинами, вселявшими в мою детскую душу мистический страх. Не помню, видел ли я там изображение ада или познакомился с ним позже по лубочной картинке, но это и неважно - строгие, непрощающие лики архангелов и святых угодников приводили меня в ничуть не меньшее содрогание. Но, пожалуй, самым пугающим было то, что я видел отсвет этой одержимости на лицах молящихся, в особенности когда они опускались на колени. Я твердо знал, что стоять на коленях - наказание, причем наказание позорное, меня так никогда не наказывали, и все мое существо возмущалось против силы, которая ставила в угол и бросала на колени даже взрослых людей.
Стараниями Поли в моем мозгу стала постепенно складываться довольно безнадежная картина мироздания. Оказалось, что мир, в котором я живу, с его радостями и огорчениями, веселыми играми и тягостными обязанностями вроде мытья ушей, есть только преддверие к загробной жизни, где большинству живущих на земле людей грозит осуждение на вечные муки. Отвертеться от этих мук удается очень немногим. К примеру, моему папе, хотя он даже по Полиному признанию человек добрый и справедливый, надеяться решительно не на что. Я же, по младости лет, имею некоторые шансы на спасение при непременном условии, что буду всячески портить себе жизнь, подлизываться к богу и часто становиться на колени. Все это никак меня не устраивало. Расставаться с родителями я не хотел даже в загробной жизни. Тем более что рай в истолковании моей наставницы выглядел немногим лучше ада. Истерзанный непосильными для моего возраста нравственными сомнениями я бледнел, худел и в конце концов захворал. Тут мои родители не на шутку встревожились и, конечно, без особого труда проникли в мою страшную тайну. Наставница моя, не дожидаясь оргвыводов, запросила расчет, с этого момента мое выздоровление физическое и духовное - пошло быстрыми шагами, через месяц я уже не вспоминал о боге. Но вот прошло полвека, а я по-прежнему с тяжелым чувством прохожу мимо храмов, на меня угнетающе действует вид молящихся людей, они кажутся мне больными и будят во мне ощущения, близкие моим детским страхам.
* * *
А вот еще одно детское воспоминание - завод.
До революции мой отец, тогда еще молодой композитор, прирабатывал уроками музыки. Среди учеников отца были и дети и взрослые дилетанты, в том числе сын владелицы кирпичного завода. К этой-то владелице мы и поехали однажды в гости на подмосковную дачу.
Сначала ехали в дачном поезде. На станции нас ждали лошади. Владелица оказалась очень рослой, очень пышной и до сладости любезной особой в лиловом шелковом платье. Ее мешковатый и неразговорчивый сын при ней совсем онемел, и в течение всего дня был слышен только ее голос, звучный голос женщины, глубоко уверенной, что все исходящее из ее уст важно, интересно и способно доставлять окружающим только самое бескорыстное наслаждение. "Вот я какая, говорил этот голос, - вот как я проста, как вежлива с прислугой, как дружелюбна со своим управляющим, как внимательна к учителю моего сына, как меня интересует музыка и прочие изящные искусства, а ведь у меня много забот, каких у большинства людей нет и в помине, - думаете, легко быть владелицей такой огромной дачи с белыми колоннами и этого парка с расчищенными дорожками, да еще целой фабрики, от которой кормится столько людей?"
Когда я вырос и стал писать пьесы для детского театpa, меня много раз пытались убеждать, что для детей надо писать попроще, подтекстов они не понимают. Я же с детских лет убежден, что дело обстоит как раз наоборот дети лучше всего понимают именно подтекст, понимают его даже тогда, когда им непонятен самый текст. Конечно, в свои пять лет я не понимал, а следовательно, не мог и запомнить сотой доли того, что говорила владелица, угощая нас завтраком на открытой веранде с белыми колоннами, но фальшь-то я уловил безошибочно и потому до невежливости угрюмо отвечал на все знаки хозяйского внимания.
После завтрака управляющий повел нас осматривать завод, и, хотя мне было интересно поглядеть, как делают кирпичи, посещение завода оставило еще более тягостное впечатление - не потому, конечно, что я постиг суть отношений между хозяевами и рабочими, а потому, что ни на одну минуту не переставал чувствовать, что угрюмые, оборванные люди, которых мы встретили на заводе, не любят и боятся управляющего, а потому смотрят косо и на нас, его гостей. День был воскресный, и людей на заводе было совсем немного, по два-три человека в каждом цехе. В одном из цехов управляющий приказал отворить печные дверцы, в другом - пустить конвейерную ленту, в третьем специально для меня был изготовлен пробный кирпич, но я видел, что рабочий взялся за форму с явной неохотой, не так, как человек, который рад показать свое умение, а с неприязненным, раздраженным выражением на лице, и мне хотелось, чтобы он поскорее кончил. А затем мы вернулись на дачу с колоннами, где был подан обед, и я опять хотел только одного: чтоб этот обед поскорее кончился. Мне не нравилось, что блюда подает мужчина, что хозяйка не переставая говорит, я уже догадывался, что папе с мамой тоже скучно и они только из вежливости делают вид, будто им весело. На сладкое принесли и вынули из ребристой металлической формы дрожащее фруктовое желе лилового цвета, похожее одновременно на пробный кирпич и на хозяйку дома. При всей моей любви к сладкому меня затошнило.