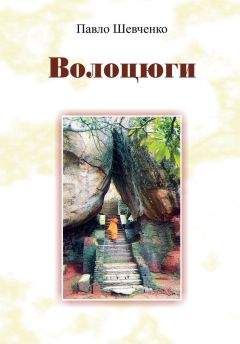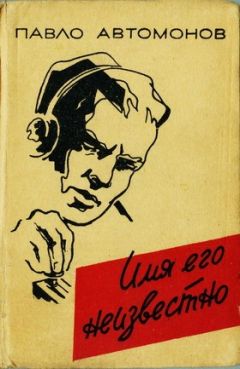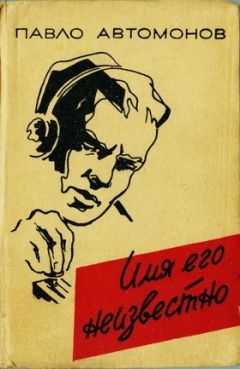Юрий Нагибин - Ими распорядился тридцать седьмой год
Вспоминается одна маленькая литературная история, в которой отчетливо проявился характер Андрея Платонова.
Это было перед войной. Лев Иванович Гумилевский, перешедший от беллетристики к научно-популярной литературе, решил проверить: может ли он еще писать рассказы. Существует как бы два Гумилевских: один — автор нашумевшего «Собачьего переулка» и прочих произведений, трактующих моральную тему в духе «без черемухи», другой — автор великолепных книг о творцах техники — Рудольфе Дизеле, Лавале — изобретателе паровой турбины, Крылове и др. Этим же вторым Гумилевским разработана интересная филологическая теория о разрушении стереотипов как основе художественного творчества. Человечески любя Гумилевского и чтя его книги об инженерах, Андрей Платонович помалкивал о тех, что «без черемухи», будто их не было в помине.
Гумилевский устроил у себя на квартире — мы жили в одном писательском доме по улице Фурманова, ныне снесенном, — чтение своего нового рассказа, написанного после многолетней разлуки с изящной словесностью. Уже напечатавшийся в то время, я был удостоен чести быть приглашенным на этот вечер. Благодарный Льву Ивановичу, я страстно желал ему успеха. Желания мои не сбылись: рассказ оказался неимоверно длинен, скучен, как-то посторонен всякой жизни; непонятен был стимул, заставивший автора взяться за перо. Теперь-то я понимаю: Лев Иванович сменил манеру — от пролетарского импрессионизма своих ранних книжек (тех, что «без черемухи») он перешел к правоверному обстоятельному реализму, думая на этом пути вновь обрести лицо беллетриста.
Рассказ никому не понравился. Как и обычно, закоперщиком разноса стал Рыкачев. Делал он это мастерски. Остальные выступавшие «присоединялись к предыдущему оратору». Платонов молчал, пил мелкими глоточками красное цинандали и морщил высокое чело.
— А как вам, Андрей Платонович? — обратился к нему Гумилевский.
Платонов еще сильнее изморщил лоб, казалось, он решает непосильную умственную задачу.
— Это… конечно… рассказ, — сказал он и припал к бокалу.
— Для меня это очень важно, — наклонил крупную голову Гумилевский. — Значит, новеллистической формой я, во всяком случае, владею.
— Да… это… рассказ, — совсем изнемогая от умственной работы, повторил Платонов и потянулся за бутылкой.
Поняв, что большего от него не добьешься, Гумилевский спросил о моем мнении.
Я пролепетал, что мне понравилось, как умирает старый пароход. На фоне этой смерти происходит действие рассказа.
— Похоже, что молодой человек внимательнее слушал мой рассказ, чем старшие коллеги, — довольно похохатывая, сказал Гумилевский.
Его укор задел отчима — последовал новый критический залп. Рыкачев пытался апеллировать к Платонову, но тот углубленно смаковал вино и даже не расслышал обращенных к нему слов.
От Гумилевского мы пошли к нам. Отчим вспомнил, что в графинчике оставалось немного водки. Измученный кислым вином, Андрей Платонович как-то особенно бережно и душевно перелил в себя две рюмки. После чего отчим с настырностью максималиста привязался к нему, почему он скрыл от Гумилевского свое мнение о рассказе. Андрей Платонович отмалчивался, отсмеивался, отфыркивался, но под конец не выдержал и сказал жалобно:
— Да что вы привязались? Пусть пишет рассказы. Это лучше, чем хулиганить в подворотне.
Это было так неожиданно и так неприменимо к пожилому, монументальному, словно конная статуя, глубоко серьезному Гумилевскому — он происходил из семьи потомственных священников и сочетал высочайшую порядочность с той неторопливой степенностью, с какой ведут службу, — что мы покатились от хохота. Платоновское выражение навсегда вошло в наш семейный обиход и нередко способствовало примирению с чем-то не очень приятным: все-таки это лучше, чем хулиганить в подворотне.
А я для себя сделал еще один вывод: другу можно простить и плохой рассказ.
Еще об одной черте в отношениях Платонова и Рыкачева стоит рассказать. Как-то раз — уже после войны — мы сидели семейно за маленьким круглым столиком в маминой комнате и отмечали мой день рождения. Гостей не было, уж больно скудно мы тогда жили. Все, что я зарабатывал, шло отцу, отпущенному из лагеря на поселение с голодной пеллагрой и дистрофией, отчим болел тромбофлебитом, работал и зарабатывал мало, в ломбард уже нечего было нести, лучшим украшением нашего стола был омлет из яичного порошка, но водка и под него шла хорошо. В разгар пиршества раздался стук в дверь, сильно нас смутивший. Не хотелось постороннего вторжения. Отчим пошел отвадить непрошеного гостя. И вдруг мы услышали его обрадованный голос: зашельцем оказался Андрей Платонович, который нередко забредал к нам без предупреждения.
Узнав, по какому поводу мы гуляем, Платонов тепло поздравил меня, поцеловал маме руку, вдруг порывисто повернулся к Рыкачеву, крепко обнял его и прижался виском к виску. Когда Платонов отстранился, у него были мокрые глаза.
— Как странно, — говорил моей матери после ухода Платонова отчим, — что он на меня, а не на тебя обратил свое чувство. Ведь я имею довольно косвенное отношение к рождению этого дитяти.
— Господи, до чего ты глуп! — сказала мама. — Да в нем отцовское заболело. Что ему я? Он думал о Тошке и о себе, о счастье быть с сыном. Это был жест отца к отцу. Я только сейчас поняла, в каком аду он живет.
Сын Платонова, красивый и одаренный Тошка, был арестован по статье 58. Когда брали политического преступника, у него не было даже временного паспорта — бумажки, которую давали допризывникам, он был вписан в паспорт матери. В 1942 году его отпустили со смертельной болезнью легких. Он успел написать несколько талантливых рассказов, жениться и заразить отца скоротечной формой чахотки.