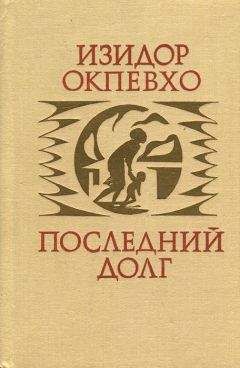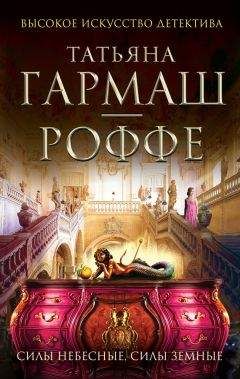Михаил Воронецкий - Мгновенье - целая жизнь
В Варшаве в семидесятых годах прошлого столетия было шесть гимназий. В первой учились дети русских чиновников; в четвертой — отпрыски мелкопоместных шляхтичей; в шестую принимались только наследники магнатских родов; вторая, третья и пятая предназначались для детей из остальных сословий. Феликс учился во второй классической.
В числе особо нелюбимых учителей был некто фон Дуйсбург, фанатически приверженный к немецкой патриотической поэзии. Однажды, заставляя учеников выучить стихотворение, он сказал:
— В этих чудесных стихах рассказывается о том, как немецкие рыцари разгромили армию поляков…
— Может быть, это случилось при Грюнвальде? — не сдержался Феликс.
«Шваб», как именовали про себя ученики фон Дуйсбурга, услышав название местечка, при котором соединенные польско-литовские и русские войска под руководством польского короля Ягелло наголову разгромили немецких рыцарей, побагровел:
— Вы безнравственный юноша! Я вас оставляю на два часа после уроков в наказание!..
Из времени учебы в старших классах в памяти навсегда осталась трагическая гибель однокурсника Феликса Игнация Нейфельдта.
Возвращение из заграничного турне Хелены Моджеевской, которой гордились поляки, взбудоражило всю Варшаву и предвещало, казалось бы, сплошные развлечения. Особенно возбуждена была учащаяся молодежь. Еще бы! Ведь самые первые спектакли всемирно известная актриса давала в пользу учеников гимназий и студентов. И не было ничего удивительного, что именно студенты стали самыми горячими ее поклонниками.
Однако гимназистам без разрешения начальства не позволялось посещать спектакли. Администрации театра запретили продавать им билеты. Но можно было кого угодно остановить запретами, только не учеников гимназий.
— Или мы не дети и внуки повстанцев? — горячился Феликс. — Нам ли не знать правил конспирации?!
— Ты прав, — ответил Домбровский, — найдем подставное лицо.
— У меня есть знакомая учительница, — вспомнил Игнаций Нейфельдт, — она нам все устроит.
И вот билеты куплены. Заказан венок, перевитый широкой лентой под цвет польского национального флага и поднесен с надписью: «Хелене Моджеевской — польская учащаяся молодежь». Но власти уже настороже: театр оцеплен полицейским нарядом. И все-таки несколько сот гимназистов прорвали оцепление и ворвались в театр.
Наутро начались допросы:
— Были на спектакле?
— Давали деньги на венок?
— Знали, что лента изображает запрещенный национальный польский флаг?
Естественно, что на первый вопрос все ответили «да», а на два последних — «нет». Тогда было решено во всех трех гимназиях исключить по пять учеников. В их числе оказался и Феликс.
Во второй и третьей гимназиях исключенные приняли удар судьбы спокойно. Но в пятой дело осложнилось тем, что Игнаций Нейфельдт, не попавший в черный список и считавший, что из-за него пострадали товарищи, взбунтовался:
— Это я поднес венок!
— И я, — крикнул Домбровский.
— И я, — присоединился Кон, однофамилец Феликса.
Добровольное признание почему-то взбесило гимназическое начальство, и все трое получили по «волчьему билету», что лишало их права заниматься частной практикой. Игнаций пошел к директору гимназии Хорошевскому.
— Господин директор, — сказал Нейфельдт, — я прошу вас назначить другое наказание. Я не могу лишиться права давать уроки, потому что это единственная возможность содержать престарелую мать. — И, чуть помолчав, добавил: — Если вы не измените своего решения, я застрелюсь.
Хорошевский, крупный и крепкий мужчина, от души расхохотался.
— Жид — и пулю в лоб! Да кто же этому поверит?
Игнаций выхватил пистолет и выстрелил себе в висок.
Гимназия была потрясена. Хорошевского немедленно уволили. А вскоре о трагедии стало известно всей Варшаве. Полумиллионный город содрогнулся. За гробом Игнация Нейфельдта шла процессия в пятьдесят тысяч человек. Таких похорон Варшава не помнила со времен восстания 1863 года, когда хоронили первых пятерых повстанцев, останки которых также провожала многотысячная скорбная процессия. Перепуганный генерал-губернатор Горчаков дал согласие похоронить погибших на главной аллее Повонзковского кладбища…
Решение об исключении гимназистов так и осталось на бумаге.
О приезде в Киев Людвик не стал извещать родителей.
Он горько усмехнулся, представив, какими жалкими станут глаза у матери, когда она узнает, что сына исключили. Прощай родительская мечта увидеть старшего с дипломом инженера! А ведь уж как они старались, чтобы нанять учительницу младшим детям, а старшего снарядить в Петербург.
Семейное благополучие было в корне подорвано в те далекие времена, когда Северин Варыньский примкнул к заговору и отдал все свое имущество в распоряжение повстанцев. Нагрянувший карательный отряд забрал лошадей, перерезал коров, сжег хозяйственные постройки и дом, а самого пана увез в Киев, где он предстал перед военным судом…
Зато уж теперь-то пан Варыньский не станет упрекать сына за легкомыслие, когда узнает, что тот выслан на родину по высочайшему повелению.
В дороге легко думалось. А думать было о чем. И хотя размышлял он о событиях невеселых, это не печалило. Потому что жизнь еще только-только начинается. Потому что он понял: его призвание быть вожаком, организатором, руководить товарищами. Так на него и смотрели студенты во время недавних волнений в институте. А когда Людвика и Александра Михайлова[1] исключили, в знак протеста забастовали два курса Технологического института. Это ли не пример товарищеской солидарности!
Как переполошилось институтское начальство! Занятия прекратились, в учебных аудиториях с утра до вечера — шумные сходки. Студенты требовали вернуть в институт Варыньского и Михайлова.
Разумеется, не вернули ни того ни другого. Более того, первый курс полностью распустили, а со второго исключили еще несколько студентов и выслали из столицы.
Ну так и что же? Отчисленным из Технологического — открыта дорога… в институт революции. Так-то, господа наставники!
А ведь с чего началось? С одной, можно сказать, случайной встречи. Но почему же — случайной?! Разве он сам не искал этих людей, приехав в Петербург в прошлом году? Конечно, искал. Потому и нашел, что искал. Александр Венцковский, с которым сошелся в первые же месяцы своего пребывания в институте, быстро разглядел в Людвике человека темпераментного, чуткого ко всякой несправедливости и пригласил к себе.
Славные это были вечера, проведенные в квартире Венцковского! Имеете изучали «Капитал» Маркса в русском переводе. Обсуждали статьи из журнала «Вперед», «Исторические письма» Лаврова. Много спорили о книгах Герцена, Чернышевского, Лассаля, Бакунина…