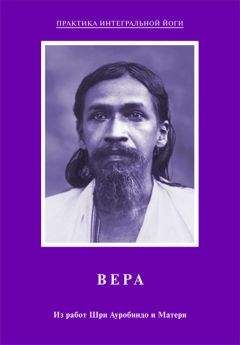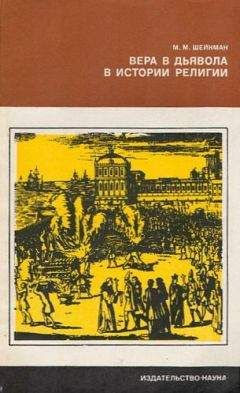Николай Златовратский - Из воспоминаний о Н. А. Добролюбове
Юношество, как бы низко ни падало при неблагоприятных условиях, всегда остается юношеством, хранящим в себе все возможности духовного возрождения, раз будет для этого достаточно сильный импульс. К сожалению, институтское начальство далеко не стояло на высоте своей педагогической задачи, и юношество встретило в нем почти те же типы педагогического чиновничества, которые оно привыкло видеть и в начальной николаевской школе. Таким образом, импульс для общего оздоровления мог явиться лишь из среды самого студенчества, из среды его наиболее даровитых и нравственно чутких личностей. Долго ждать их не пришлось, так как те, которые казались сначала хмурыми «бобылями», далеко по существу своей натуры не были замкнутыми, лишенными чувства живого товарищеского общения личностями, раз для этого находилась мало-мальски подходящая почва. Такой личностью оказался прежде всего Добролюбов, который вскоре не только стал популярным среди товарищей, но и незаметно послужил общему подъему настроения своих однокурсников.
Как натура незаурядно даровитая, Добролюбов прежде всего сразу выдвинулся своими сочинительскими способностями. Сначала блестяще составляемые им лекции по русской словесности, а затем и поданное им в совет профессоров оригинальное сочинение о Виргидии обратило на него общее внимание как начальства, так и товарищей. Последние не преминули осадить его, как знатока предмета, самыми докучливыми просьбами о разных указаниях, разъяснениях, исправлении тетрадок лекций и т. п., и Добролюбов шел им навстречу без всякого неудовольствия, очень охотно жертвуя всякой свободной минутой. Товарищи за ним ухаживали, но он не играл между ними никакой роли покровителя и, как говорили о нем, «никогда не драл носа».
Но еще большее внимание обратил на себя Добролюбов, когда, вопреки всяким традициям, он, не удовлетворяясь слушанием лекций, начал вступать с профессорами в беседы, прося разъяснений, указаний, и даже вступал с ними в оживленные дебаты. Такое новшество многим профессорам очень не понравилось. За исключением немногих лиц, известных своими научными заслугами, большинство профессоров были просто чиновники, отбывающие повинность, недалекие и малознающие. Понятно, что они старались всячески избегать «приставаний» студентов, так как это нередко вело к комическим инцидентам, подрывавшим профессорский авторитет. Между прочим, дядя приводит такой характерный факт. Однажды Добролюбов, не удовлетворившись лекцией профессора о «Мертвых душах» Гоголя, которая вся сводилась к одним бессодержательным почти восклицаниям (вроде того, что Гоголь – это русский Гомер, что и выражения у него все «гомерические», возьмите, например, такое: «на деревянном лице» – разве это не бесподобно? и т. п.), попросил его выяснить, наконец, в чем же, однако, существенное значение «Мертвых душ» для русской литературы. Озадаченный профессор, вместо ответа, спрашивает Добролюбова: «А кончил ли Гоголь „Мертвые души“?» Добролюбов уклоняется от ответа и снова задает прежний вопрос. Профессор продолжает настаивать на своем вопросе. Наконец, Добролюбов говорит, что – нет, не кончил. – «Ну, что же вы и спрашиваете меня о значении „Мертвых душ“, когда они не кончены?!» Понятно, что такого рода дебаты создавали довольно веселое настроение в аудитории. Отзывчивая и даровитая натура Добролюбова и здесь сказалась; он принялся составлять очень удачно юмористические пародии на лекции профессоров, подобных вышеописанному. Пародии эти имели огромный успех, гуляя по всему институту. Как известно, в этих пародиях уже тогда сказалась та склонность Добролюбова к юмору и сатире, которая впоследствии нашла такое удачное выражение в «Свистке».
Однако такие комические дебаты на лекциях и добролюбовские пародии рождали не одно только веселое настроение. Они незаметно поднимали общее духовное настроение студенчества, заставляя его критически относиться к тому, на что прежде смотрелось, как на обычное отбывание школьной учебы.
Вместе с Добролюбовым в это время стал пользоваться не меньшей популярностью и влиянием юноша Щеглов – личность чрезвычайно энергичная, с широким энциклопедическим образованием; сын священника, он сначала воспитывался в семинарии, но оттуда был «выгнан», очевидно за излишнюю самостоятельность характера и мнений, и принужден был закончить курс в гимназии. Это развило в нем, по словам дяди, непримиримую ненависть к «семинарской закваске», и он пользовался всяким случаем, чтобы протестовать против заскорузло бурсацких взглядов, которых держались многие институтские «семинаристы». Последние отнеслись к нему вначале очень враждебно, обвиняя его в личной ненависти к ним. Но Щеглов в это время близко сошелся с Добролюбовым, и скоро все поняли, что его протест истекал из чистых побуждений рассеять мрак и предрассудки своих товарищей.
Сближение между Щегловым и Добролюбовым, скоро перешедшее в близкие дружеские отношения, имело благотворное влияние на их развитие. «Это была замечательная пора в жизни Н.А. Добролюбова, – замечает дядя, – начало перемены в нем, перемены во всяком случае к лучшему», так как и Добролюбову были в это время еще не чужды многие предрассудки, воспринятые из близкой среды. В первую пору новые приятели были, можно сказать, неразлучны, они даже кровати в спальне поставили рядом, вопреки институтским правилам. Добролюбов в это время серьезно принялся за изучение французского языка, и, вместо Виргилия, у него появились в руках сначала французские романы, а потом сочинения Руссо и Прудона; все больше и больше времени он отдает чтению, все чаще начинает посещать Публичную библиотеку; от кого-то он стал приносить в институт «Отечественные записки» и «Современник» времен Белинского. Дядя брал у него эти книги, толковал с ним по поводу статей Белинского, и это послужило началом их сближения. Вообще в это время он сделался еще общительнее, все более расширяя круг своих товарищей. «Помню, говорит дядя, придет он, бывало, в нашу камеру с Белинским и начнет читать; потом вдруг поднимет по обыкновению на лоб очки и заговорит восторженно: – Удивительно! Ведь все это было читано и перечитано прежде, и теперь все читаю как будто новое!» И затем шли по поводу прочитанного длинные беседы с дядей, Щегловым и со всем товарищеским кружком.
Но это повышенное и жизнерадостное настроение Добролюбова скоро сменилось таким удрученным душевным состоянием, которое в значительной степени изменило его юношески наивное умонастроение. Как известно, в это время неожиданно умерла у него горячо любимая мать, а затем вскоре отец, оставив исключительно на его попечение семерых младших братьев и сестер. По поводу этого дядя утверждает, что «Дневник» Добролюбова, впоследствии напечатанный в «Современнике», очень ясно представляет влияние этих неожиданных невзгод на его душевный строй и перемену некоторых убеждений. В первые дни после пережитых тяжелых впечатлений он то впадал в самый мрачный мистицизм, например, доказывая дяде, что отец его умер от того, что снял с себя фотографический портрет, то с необыкновенной резкостью отрицал всякие мистические предрассудки. Очевидно, в нем, как в натуре глубоко искренней и любящей, происходила тяжелая борьба. Так одно время, чтобы спасти семью, он думал даже оставить институт и поступить в священники на место отца. – «Знаешь что? – сказал он дяде, – мне предстоит удовольствие быть священником…» – «Как так? – заметил дядя, – ведь теперь уж нельзя, ты уволен из духовного звания». – «Нет, это ничего, а другое…» Очевидно, он намекал на происходившую в нем душевную борьбу.