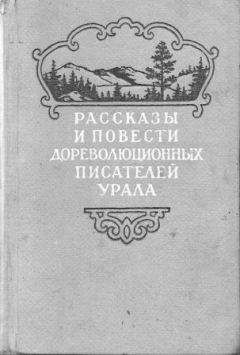Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин
Все же вряд ли такой переворот — превращение веселой московской купеческой дочки в требовательную, не терпевшую возражений, а порой и жестокую помещицу — совершился, так сказать, в одночасье, при всей его «крутости». Когда родился Михаил, Ольга Михайловна была молода, чувства ее не застыли еще в той неукротимой и деспотической властности, которая превратила ее в конце концов, по словам одного современника, в «боярыню Морозову» (знаменитая властная и непримиримая раскольница XVII века).
Мише Салтыкову с небольшим полтора года; Ольга Михайловна в начале сентября 1827 года пишет мужу, Евграфу Васильевичу, в Москву, где тот в это время был: «Миша так мил, что чудо. Все говорит и хорошо. Беспрестанно со мной бывает и не отходит. Все утешает меня в разлуке с тобой. Признаюсь, мой друг, я при нем покойнее и веселее, и все его целуют...» И еще через пять дней ему же, «моему другу» Евграфу Васильевичу: «...дети все милы, а Миша столько мил, что не могу описать. Вообрази, все говорит, беспрестанно у меня, и поутру, как проснется, то в столовую идет меня искать, спрашивает: тятя где? маменька, чаю хочу. Идет в твой кабинет, мы там пьем чай, потом возвращается в мою спальню, где все радости свидания и поцелуи, берет за руку и ведет: дай чаю, маменька. Столько меня он утешает, что при нем немного забываю нашу разлуку». Хотя детей шестеро, и все они милы, все-таки Миша всех милее: правда, он младший. Даже если сделать скидку на столь характерный для двадцатых годов прошлого века сентиментальный дух и стиль семейной переписки, все же ощущается довольно ладная семья, вскоре пополнившаяся еще двумя сыновьями — Сергеем, родившимся в 1829-м, и Ильей, родившимся в 1834 году.
Счастливые детские воспоминания о ласкавшей матери, о светлых днях раннего детства, об уюте родного дома жили, наверное, где-то в подсознании, в смутных глубинах еще не оформившейся, так сказать, безобразной младенческой памяти, жило ощущение покоя и радости, еще не омраченной позднейшими тягостными впечатлениями. Ведь, конечно, недаром на исходе дней скажет больной и много переживший, в сущности, всю жизнь свою бездомный писатель фразу, которая вызывает недоумение после всего того, что мы знаем о его детстве и из прямых его воспоминаний, и из общего мрачного тона и колорита «Пошехонской старины»: «Ежели я что-нибудь вынес из жизни, то все-таки оттуда, из деревенского десятилетнего детства».
Но даже в немногих оставшихся от этого времени письмах, принадлежащих членам салтыковского семейства, по видимости, резким диссонансом начинает звучать мотив, чуждый семейному ладу, семейной идиллии. В августе 1829 года (значит, Мише было два с половиною года) Евграф Васильевич пишет Ольге Михайловне: «Тебя же ради бога прошу детей не слишком много наказывать, ибо если что без тебя было <а Ольга Михайловна на некоторое время уезжала из Спасского в Москву>, за то уже они и наказаны, а впредь остерегать их и подтверждать, чтобы смирны и прилежны были...»
Для Миши Салтыкова его детское непосредственно-бессознательное, счастливое бытие кончилось с одним из таких наказаний. И здесь уже вступила в свои права память, пробудившееся — пусть еще неясное — сознание, которое скоро уже получит способность оценивать, судить и не забывать.
«А знаете, с какого момента началась моя память? — спросил однажды Салтыков в свои поздние годы. — Помню, что меня секут... секут как следует, розгою... Было мне тогда, должно быть, года два, не больше». Этот мотив наказания, битья какой-то страшной — кричащей, надрывающей сердце — нотой звучит во многих сочинениях Салтыкова, вплоть до «Портного Гришки» («Мелочи жизни») и «Пошехонской старины».
Вообще, этот «угол» Тверской губернии, вся эта местность, захолустнейшая из захолустных, как заметил Салтыков, вспоминая свои детские годы, — как будто самой природой была предназначена для «мистерий крепостного права». И эти мистерии разыгрывались не только на мужицких спинах, не только в отношениях самовластного, самодержавного помещика с бесправным крепостным мужиком-«хамом» или крепостной девкой-«подлянкой». Все было крепостным: все стороны повседневного быта, житейских отношений, обиходной морали. Крепостное право проникало всюду. Крепостными были и дети, и — не в последнюю очередь — помещичьи дети.
В памяти Салтыкова через полвека прежде всего всплывают «смутные впечатления о детском плаче, почти без перерыва раздававшемся, по преимуществу, за классным столом... Страшно подумать, что, несмотря на обилие детей, наш дом в неклассные часы погружался в такую тишину, как будто все в нем вымерло. Зато во время классов поднимались неумолкающие стоны, сопровождаемые ударами линейкой по рукам, шлепками по голове, оплеухами и проч. Мой младший брат <Сергей> несколько раз сбирался удавиться. Он был на три года моложе меня, но учился, ради экономии, вместе со мною, и от него требовали того же, что и от меня. И так как он не мог выполнить этих требований, то били, били его без конца» (незаконченный мемуарный набросок для «Пошехонских рассказов»).
Память Салтыкова, когда перед ним встают дни его десятилетнего детства, тревожит еще одно воспоминание — «нет воспоминания более гнусного» — воспоминание, отравившее впоследствии его сознательную жизнь, окрасившее мучительным трагизмом и его отношения с родными, прежде всего матерью Ольгой Михайловной и братом Дмитрием, и страницы его гениальных созданий — романа «Господа Головлевы» и жития-хроники «Пошехонская старина». Это гнусное воспоминание — о разделении детей на две категории — любимчиков и постылых: «Это деление не остановилось на детстве, но перешло впоследствии через всю жизнь».
В том же мемуарном наброске Салтыков отметил свое несколько особое положение в семействе: «Я лично рос отдельно от большинства братьев и сестер, мать была не особенно ко мне строга...» Чем можно объяснить такое отношение матери к своему шестому ребенку и третьему сыну? Прежде всего тем, наверное, что пять первых детей Ольги Михайловны почти все были погодками, а Михаил родился через три года после сестры Любови (родившаяся в 1825 году Софья умерла во младенчестве). а брат Сергей появился на свет через три года после Михаила (в 1829-м). Долгов время Михаил был младшим и любимым сыном. Николай (родившийся в 1821 году; прототип Степки-балбеса из «Господ Головлевых» и «Пошехонской старины») и Сергей, забитый оригинальной семейной педагогикой, принадлежали, по классификации и соответствующему отношению Ольги Михайловны, к числу «постылых». Такое положение Михаила среди салтыковских детей создало ему некоторую самостоятельность, сыграло свою положительную роль. При всеобщей приниженности, угнетенности и забитости, которой, разумеется, и он полностью избежать не мог, он все же был забит и унижен менее других. Своеобразное одиночество, уединение среди гама и плача классной комнаты оставляло больше времени и возможностей для размышлений, сравнений и оценок. Уединение оказывалось пусть и относительной, но все же свободой.