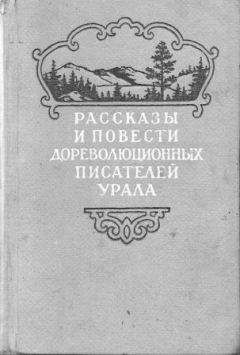Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин
Неженное (как тогда говорилось) дворянское воспитание не только требовало ограждения помещичьих детей от общения с крестьянами, но и, так сказать, изначально вырабатывало вполне определенное — презрительное — отношение к рабу и хаму.
Условия усадебного быта мелкого и среднего русского помещика, постоянно жившего в своем «углу» или «гнезде», были, однако, таковы, что избежать взаимных общений баричей и барышень с крестьянской средой не было никакой возможности. Ведь и хозяйственный двор усадьбы, и людская, и девичья, и застольная в самом помещичьем доме были полны трудящимся крепостным людом. Все дело заключалось только в том, кто и что мог вынести из этого общения, каким взглядом посмотреть и на повседневный от века сложившийся обиход, и на частые, в сущности, тоже повседневные человеческие драмы, совершавшиеся в безгласной и серой массе крепостного крестьянства.
В господском доме скучивались и ютились но своим углам, спали на полу на войлоках дворовые люди (те же крепостные, только лишенные собственного земельного надела и исправлявшие всяческую работу при дворе помещика); некоторые из дворовых имели семьи, в большинстве же это были сенные (от слова «сени») девушки, «девки» в крепостническом словоупотреблении: им Ольгой Михайловной Салтыковой выходить замуж строго-настрого запрещалось. Лакеи, горничные, кормилицы, няньки, мамки, кучера из крепостных — вообще люди («человек» в тогдашнем помещичьем лексиконе означал «слуга») сопровождали помещика от колыбели до гроба, в каком-то смысле даже и воспитывали дворянских, детей. «Я, — писал Салтыков, — вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем» («Мелочи жизни»).
Крепостная кормилица, вскормившая своим молоком барского дитятю, пользовалась привилегией: молочный брат или молочная сестра этого дитяти отпускались на волю. Давать вольную будущему тяглецу или рекруту считалось невыгодным и потому в кормилицы обычно брали крестьянок, родивших девочек. К своей крепостной кормилице Домне маленький Миша любил потом бегать украдкой в деревню, и голодный барчук (следствие домашнего скопидомства) досыта наедался в ее избе обыкновенной крестьянской яичницей. Трудно сказать, что сохранилось в памяти Салтыкова от встреч тайком со своей молочной матерью и молочной сестрой. Наверное, все же не голод, а благодарное человеческое чувство, чувство любви, пусть неясное и неосознанное, влекло его в избу Домны. И образ безвестной и незаметной крестьянской женщины несомненно занял свое место в том огромном впечатляющем образе русского мужика, деревни, народа, который постепенно и подспудно рос в его памяти и сознании.
Нянек и мамок было много, они постоянно менялись, но между ними не было ни одной сказочницы — Арины Родионовны. Сугубо прозаическая настроенность спасского дома и в этом случае проявилась в полной мере. «Одним из самых существенных недостатков моего воспитания, — говорится в мемуарном наброске для «Пошехонских рассказов», — было совершенное отсутствие элементов, которые могли бы давать пищу воображению. Ни общения с природой, ни религиозной возбужденности, ни увлечения сказочным миром — ничего подобного в нашей семье не допускалось», не допускалось ничего поэтического. Потом, когда пришла пора учения, нянек и мамок сменили приглашаемые из Москвы гувернантки, учившие преимущественно иностранным языкам и музыке (все то же «неженное» дворянское воспитание). Запоминались они больше всего разнообразными и изощренными приемами битья, а отнюдь не желанием пробудить в детях фантазию, внести в детский мир поэзию природы, сказки или родной литературы (позднее Салтыков скажет, что в детстве он русской литературы не знал: в доме не было даже басен Крылова).
Воображение тем не менее требовало пищи, искало ее и в конце концов находило; детскую фантазию невозможно было забить окончательно и бесповоротно. Содержание этой фантазии, к несчастью, оказывалось чаще всего жалким и скудным, как скуден был духовный мир салтыковской усадьбы: высшее счастье жизни полагалось в еде, грезилось и мечталось отнюдь не о сказочном Лукоморье или прекрасной спящей царевне и доблестных семи богатырях, а о вещах гораздо более прозаических и реальных — богатстве и генеральстве. Правда, в нечистую силу верили, чертей, домовых и прочих «пустяков» боялись.
Иногда помещичьим детям позволялось (только не в престольный праздник, когда мужики гуляли) пройти, в сопровождения гувернантки, по селу, заглянуть в крестьянские дворы и избы.
Барчата, «сгруппировавшись около гувернантки, степенно и чинно бредут по поселку. Поселок пустынен, рабочий день еще не кончился; за молодыми барами издали следует толпа деревенских ребятишек.
Дети перекидываются замечаниями.
— Вон Антипка какую избу взбодрил, а теперь она пустая стоит! — рассказывает Степан. — Бедный был и пил здорово, да икону откуда-то добыл — с тех пор и пошел разживаться. И пить перестал, и деньги проявились. Шире да шире, четверку лошадей завел, одна другой лучше, коров, овец, избу эту самую выстроил... Наконец на оброк выпросился, торговать стал... Мать только дивилась: откуда на Антипку пошло-поехало? Вот и скажи ей кто-то: такая, мол, у Антипки икона есть, которая ему счастье приносит. Она взяла да и отняла. Антипка-то в ту пору в ногах валялся, деньги предлагал, а она одно твердит: «Тебе все равно, какой иконе богу ни молиться...» Так и не отдала. С тех пор Антипка опять захудал. Стал пить, тосковать, день ото дню хуже да хуже... Теперь хороший-то дом пустует, а он с семейством сзади в хибарке живет. С нынешнего года опять на барщину посадили, а с неделю тому назад уж и на конюшне наказывали...
— А вот Катькина изба, — отзывается Любочка, — я вчера ее из-за садовой решетки видела, с сенокоса идет: черная, худая. «Что, Катька, спрашиваю: сладко за мужиком жить?» — «Ничего, говорит, буду-таки за вашу маменьку бога молить. По смерть ласки ее не забуду!»
— Изба-то у ней... посмотрите! бревна живого нет!
— И поделом ей, — решает Сонечка, — ежели бы все девушки...
В таких разговорах проходит вся прогулка. Нет ни одной избы, которая не вызвала бы замечания, потому что за всякой числится какая-нибудь история. Дети не сочувствуют мужичку и признают за ним только право терпеть обиду, а не роптать на нее. Напротив, поступки мамаши, по отношению к крестьянам, встречают их безусловное одобрение» («Пошехонская старина»).
Дети смотрят на деревню из окон своего усадебного дома, глазами той среды, в которой живут, пересказывают те разговоры, которые слышат в столовой, в кабинете отца, в людской, в девичьей, повторяют наполнявшее, как дурной запах, атмосферу их родного дома сквернословие — грубый, циничный или ханжеский язык весьма низменного свойства, которым, не стесняясь присутствия детей, изъяснялись мать, отец, челядинцы, населявшие людскую. Стяжание, успех по службе, отношения полов, точнее — изнанка этих отношений, — в этом кругу вращались интересы и разговоры взрослых, этот круг интересов образовывал сознание и мораль детей. Отсюда, из спальни матери, кабинета отца, от лакеев и развращенных дворовых, выносили дети Салтыковых грубо презрительное отношение к посконному и сермяжному тягловому мужику, то ухичивавшему свою бедную избу, немудрящий двор, то упорно и тупо, от восхода до захода солнца, шедшему за сохой по своей ли полосе или по барскому полю.