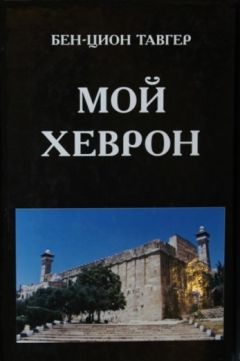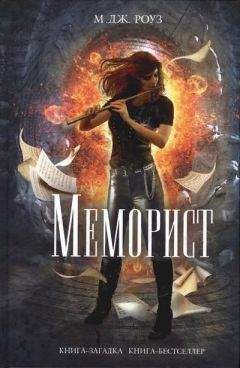Бен-Цион Динур - Мир, которого не стало
Слева – спальня дяди и тети. Дальше – еще одна комната, дедушкина. После его смерти там никто не жил, и она служила комнатой для гостей. Стены в этой комнате были покрыты яркими обоями. Вдоль стен – книжные шкафы, а между ними – большие часы с тяжелыми гирями в специальном шкафчике – «часовом шкафчике», который был закрыт и открывался только если надо было «подтянуть» гири. Я помню, что этот шкафчик закрыли из-за меня: я любил залезать в него и играть с гирями и как-то раз чуть не сбросил его со стены. На стене висели две картины – портрет Моше Монтефиоре{5} и портрет деда с медалью на груди. Занавески в комнате были кружевные, нежно-апельсинового цвета.
Дальше находилась спальня бабушки и дедушки. Вход туда был строго запрещен. В библиотеку тоже было запрещено входить, но не так строго.
Во второй части дома – три комнаты: большая кухня с деревянным полом и две маленькие комнаты без пола. Каждую неделю перед субботой их мажут цветной глиной. В этих маленьких комнатах мы и живем. Возле входа в кухню всегда стоят ряды кувшинов, полных простокваши и сметаны. Я прославился тем, что каждый раз, входя в кухню, задевал один из кувшинов и разбивал его. Может быть, потому, что меня всегда предупреждали этого не делать, и я старался быть осторожным?
Результатом этой предосторожности всегда был разбитый кувшин… И его надо было скрыть от бабушки Бейлы. В старости она ослепла, была педантична и гневлива. Но от нее всегда можно было спрятаться. Напротив наших окон стоял высокий дощатый забор. Каждая доска сверху имела вид треугольника. Между нашим домом и забором росло два дерева. Как только в «малом доме» слышался бабушкин голос, я выпрыгивал из окна и распластывался под деревом. Это место было самым любимым у меня и у всех детей – многочисленных правнуков прадедушки.
После смерти деда отношения между жителями «большого дома» и нами не были абсолютно гладкими. Дядя Кальман, чье лицо было гневным и серьезным, а взгляд наводил страх, был в сущности добрым человеком. Тетя Тамара, из семьи кременчугских Хазановых, тоже была доброй и тонкой натурой и страдала от придирчивости дяди. В один прекрасный день она исчезла. Как сквозь туман я вспоминаю: она будто бы выпрыгнула из окна и вернулась через два-три года. Рассказывали, что она заболела душевной болезнью, лежала в больнице и вернулась, когда выздоровела.
Дочь дяди и тети, напротив, была очень злая, и проявлялось это в том, что она щипалась. Перед входом в дом, в деревянном коридоре, стояла бочка с водой, и одним из самых больших моих удовольствий было залезть на стул, нагнуться над краем бочки, наклонить голову, уставиться в воду, смотреть на свое отражение и строить разные гримасы. Но это удовольствие дорого мне стоило: Шейна-Рохл следила за мной, и когда видела, что я погрузился в эту игру, внезапно щипала меня, стараясь изо всех сил, чтобы щипок оставил след.
Как уже было сказано, отношения между двумя частями дома не были гармоничными. Это было связано с историей семьи моего отца.
Его отец, р. Цви-Яаков Динабург, уроженец Нежина, умер 28 лет от роду, в 5622 (1862) году. Семья была знаменита своими учеными и раввинами. Его дед, р. Хаим-Йехуда Лейб, был раввином в городе Ромны Полтавской губернии, а после его смерти этот пост унаследовал его сын Шнеур-Залман. Долгие годы он был раввином, а умер в городе Гадяче Полтавской губернии. Его могила была рядом с могилой р. Шнеура-Залмана из Ляд{6}.
В доме моего дяди, брата отца, р. Лейба, я видел «родословное дерево» нашей семьи, доходящее до XVII века, и в нем были обозначены 12 поколений. Дед был человеком небывалых достоинств, но, по-видимому, обладал нелегким характером. О нем рассказывали, что он был вспыльчив. У него была большая и очень хорошая библиотека. После него осталось много рукописей, среди которых я нашел сочинение по математике и рукопись под названием «То, что я нашел в книгах о том человеке и обо всем, что к нему относится», в которой он собрал все, что писали в раввинистической литературе о жизни Иисуса. Его работы полны примечаний – он вносил постоянно изменения в редакции своих сочинений. Он советовался с ребе Менахемом-Мендлом из Любавичей{7} (которого еще называли «Цемах Цедек»{8}) и с его сыном, ребе Борухом-Шоломом{9} из Лужан. С последним он активно переписывался и был, по-видимому, очень дружен.
В годы Первой мировой войны мой дядя передал все письма (среди них и письма Элиэзера-Цви Цвейфеля{10}) в архив Еврейского историко-этнографического общества{11} в Петербурге. Как уже было сказано, мой дед умер в 5622 (1862) году. Он был раввином в городе Хороле{12}. После него осталось четверо сирот: трое сыновей (мой отец, благословенна его память, был средним) и старшая дочь. Кроме того, он оставил, по-видимому, неплохое состояние: большой дом и большую библиотеку. Детей разделили между родственниками, там они и воспитывались. Отец мой воспитывался в доме своего деда с материнской стороны, ребе Авраама Мадиевского. Дедушкины книги поделила между собой младшая родня Авраама Мадиевского – р. Шнеур-Залман Гельфанд, раввин из города Зенькова Полтавской губернии, и р. Пинхас Островский из Ромен, хасид, ученый и просветитель, который не хотел становиться раввином. Каждый раз, когда я навещал родственников и видел там книги, в которых узнавал почерк моего прадеда, меня посещало странное чувство, что эти книги на самом деле принадлежат мне… Не раз я пытался заявлять об этом и просить, чтобы мне вернули хотя бы несколько книг. Книг были тысячи, а у нас в доме и у брата моего отца было только несколько сотен дедовских книг.
Прадед, ребе Авраам, оставил, согласно преданиям, завещание, по которому дом и двор, в котором он жил, должны были по частям перейти под наше управление в качестве компенсации за имущество отца моего отца, которое перешло к нему. Но это завещание не было опубликовано. Мама утверждала, что дядя Кальман и другие утаили его под предлогом, что оно не было подписано, несмотря на то, что дед, ребе Авраам, открыто выразил свою волю перед мамой, папой и всей семьей. Он сказал: «Их часть дома да не будет урезана». Это не нашло своего выражения: папа запрещал нам говорить об этой истории. Но отношения на этом фоне долгое время оставались напряженными.
Мой родной город-Хорал, и жизнь прадеда была связана с этими местами: отец его зятя, р. Моше из Гадяча, были родстве с семьей р. Шнеура-Залмана из Ляд. Я слышал, что он также был компаньоном по коммерческим делам р. Бера (Шнеерсона){13}, Среднего адмора{14}. Отец его был из Жлобина, находившегося по соседству с Бобруйском, но в дни бегства от наполеоновской армии семья переехала в Полтавскую губернию. Перед тем как получить пост раввина в Хорале, ребе Авраам Мадиевский был раввином в Полтаве. Все были удивлены тем, что он оставил большой город (Полтава была губернским городом) ради поста раввина в небольшом областном городишке. Я уверен, что этот поступок был связан с общественной деятельностью моего прадеда.