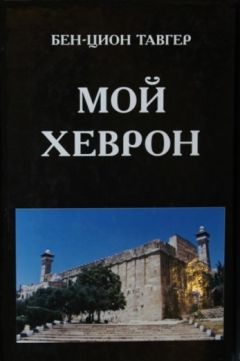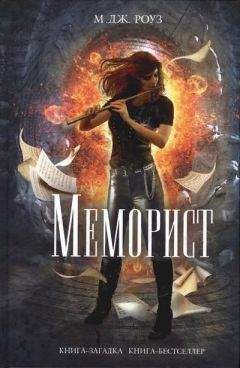Бен-Цион Динур - Мир, которого не стало
Отец был гораздо более сведущ в Торе, нежели мне казалось. Он почти никогда не проверял мои знания, но после того как я сдал экзамен на раввина, он счел своим долгом задать мне несколько вопросов: похвалы моих экзаменаторов показались ему преувеличенными. И должен сказать, что его экзамен дался мне гораздо тяжелее, чем все экзамены, которые я когда-либо сдавал до этого. Однако он велел мне, чтобы я никому не рассказывал про то испытание, которому он меня подверг.
Мать была родом из Кременчуга. Ее отец, ребе Зеев-Вольф Эскинбайн, был известен в Кременчуге как ребе Велвл из Парича. Он преподавал Гемару{51} старшим детям, сыновьям уважаемых и богатых людей, и был близким другом ребе Зеева Членова (отца д-ра Йехиэля Членова{52}), который тоже был хасидом Хабада. Они жили в одном дворе.
В том дворе в 70-е годы жила целая когорта русских революционеров. Не знаю, как так вышло, но мать в юные годы прониклась духом молодых революционеров и потом рассказывала нам множество историй об этой компании, о причинах их ареста и об их самоотверженности. Мать была очень умной женщиной, замечательно умела рассказывать, и ее рассказы поражали наше детское воображение. Мы считали ее самой умной женщиной в городе. В дни революции 1905 года говорили, что если бы Наоми была чуть помоложе, она бы сама пошла на баррикады, и если революция будет продолжаться, то не исключено, что она туда и в самом деле пойдет.
Мать обладала бунтарской натурой и не признавала свойственного отцу жертвенного отношения к несправедливости; она испытывала сложные чувства к родственникам отца, которые были богатыми и знатными, и считала, что их моральный облик не без изъяна.
Это напряжение, носившее характер более скрытый, нежели открытый, сильно влияло на нашу жизнь и на атмосферу в доме. Родственники считали своим долгом опекать детей, стремясь, чтобы каждый из нас стал незаурядной личностью. Особенно доставалось мне. Они говорили, что такова-де воля прадеда, ребе Авраама Мадиевского. Рассказывали, что примерно за неделю-две до его смерти у одного из его внуков была свадьба. Ребе велел позвать на свадьбу всю семью. Пришли сыновья и дочери, женихи и невесты, внуки и внучки, правнучки и правнуки. Их было больше, чем сыновей Израиля, пришедших в Египет. За праздничным столом прадед посадил меня к себе на колени, и я сидел на его коленях в течение всей трапезы. Родные даже начали ревновать. Тогда прадед поднялся посреди большого свадебного шатра, где собрались все члены семьи и жители города, постучал по столу и сказал: «Я специально держу Бен-Циана на коленях; я убежден, что он станет гордостью нашей семьи, попомните мое слово; вы несете ответственность за него, и я возлагаю на вас обязанность всегда заботиться о нем».
Я рассказываю об этом, потому что это завещание создало мне в жизни много сложностей.
Сложность первая и самая серьезная: все родственники не просто считали себя вправе следить за мной, а даже как бы чувствовали себя обязанными. Каждый считал своим долгом давать мне советы, высказывать мнение о моем воспитании, читать мораль и попросту руководить мной. Этим занимались все мои родичи без исключения: и молодые, и старые… Я пытался протестовать. Но когда кто-нибудь из «воспитателей» обнаруживал во мне признаки неповиновения, он лишь удивлялся и говорил: «Что за писк и визг? Я лишь исполняю волю прадеда, ребе Авраама!»
Эта семейная опека больнее всего задевала мою мать. Она обижалась на каждый совет, на каждое вмешательство, даже в тех случаях, когда эти советы бывали довольно разумными, а вмешательство служило для моего же блага. Но чаще всего ее обида была обоснованной.
Наше материальное положение было не на высоте, если сравнивать с финансовым состоянием всего семейства. Вся семья становилась богаче, а наш дом беднел день ото дня. Мой дядя был единственным человеком в городе, у которого был дом в два этажа. Это был самый высокий и красивый дом во всем городе; при нем имелся большой двор и сад. Правда, верхний этаж здания не был отделан изнутри и служил мне местом для игры с дядиными детьми. Возле дома был большой двор, а во дворе сад. У дяди была самая большая в городе платяная лавка. Другие мои родственники тоже были состоятельными людьми: один был совладельцем маслобойни, другой работал в банке, третий – на большой мельнице, у четвертого было свое предприятие. Короче, были зажиточными людьми и жили небедно, что являло собой полную противоположность нашему образу жизни.
Отец долгое время работал агентом у своего старшего брата, который жил в Москве и занимался поставками промышленных товаров из Москвы на Украину. Но отец имел обыкновение продавать лавочникам товары в кредит, а мало кто из них возвращал кредиты. У нас дома хранились немые свидетели торговых «успехов» отца: неоплаченные векселя на имя крупнейших городских торговцев. Отец, который из принципа не желал идти к судье-гою, хранил коллекцию из этих векселей; если ему улыбалась удача, то должник «закрывал» долг, выплачивая ему 20–30 процентов своего долга, чтобы отец мог частично погасить долг своему брату. У него еще была лавка, в которой торговала обычно мама. После выселения евреев из Москвы в 1891 году{53} мой дядя был вынужден покинуть Москву, и этот источник дохода прекратил свое существование. Лавка принадлежала христианину, и тот отдал ее в аренду другому еврею, который заплатил большую цену. В лавке был широкий ассортимент, и, чтобы сделать предприятие более надежным, отец разделил ее на две части, но доход, который приносили совокупно обе части, был меньше, чем доход от одной лавки. Так мы постепенно нищали. В конце концов отец занялся продажей книг и лотерейных билетов; доход от всех этих предприятий был очень невелик.
Нас было восемь детей, целая орава, и в доме обычно царили радость и веселье. Большим утешением для отца было то, что он почти не платил за наше обучение. Наше имя сослужило нам добрую службу, учителя предлагали нам учиться бесплатно или почти бесплатно, потому что где бы мы с братом ни учились, туда сразу приходили самые лучшие ученики из состоятельных городских слоев.
Два случая врезались в мою память напоминанием о тех трудных днях. Первое воспоминание: это был тот день, когда отец разделил большую лавку на две маленьких, мне тогда было семь лет. Я пришел из хедера и увидел, что матери очень грустно. Я решил пожалеть ее и сказал:
«Чем хуже нам сейчас, тем лучше будет на том свете». Мать ответила шепотом, как бы говоря сама с собой: «Это все выдумали богачи, чтобы бедняки не подняли бунт».
Второй случай был во время праздника Шавуот{54}. Я вспоминаю: мы в гостях у нашего дяди-раввина; я вижу, как мать выходит из комнаты со слезами на глазах. Как я потом узнал, нам тогда нужны были деньги взаймы, десять рублей, и мама дала тете Маше, дядиной жене, в залог свое жемчужное ожерелье. Перед праздником Шавуот та вернула матери ожерелье, хотя мать еще не успела заплатить долг. Но это жемчужное ожерелье было не мамино. «Мои жемчужины, – сказала мама, – были большие и красивые», – а жена дяди вернула ей крохотную нитку жемчуга с мелкими жемчужинами. Когда же в Шавуот мы собрались в гостях у дяди, мама не удержалась и сказала ей: «Я не возьму это ожерелье, оно не мое». Дядина жена рассердилась и заявила: «Ты на меня наговариваешь и этим обижаешь меня!» В итоге мамино жемчужное ожерелье осталось у тети Маши, и к тому же отец потребовал, чтобы мать вернула ей еще и это крошечное ожерелье с мелким жемчугом: «Оно принадлежит кому-то другому, оно не твое…»