Михаил Пришвин - Дневники. 1918—1919
4 Января. Вчера выпущен продовольственный диктатор — бухгалтер Государственного банка Писарский. Сегодня продовольствие несколько расстроилось. Сельский учитель, вывезенный из недр Псковской губернии за отказ сдать дела школы, называется у нас «профессор».
Лучшие представители 70-титысячной организации служилой интеллигенции Петербурга, которые называются у большевиков «саботажники».
Порядок (конституция) нашей камеры был выработан товарищем министра Бородаевским и прочно держится до сих пор.
Рассказ очевидца при выборах в Учредительное Собрание. Старушка говорила:
— Я за церковь и за Бога, а то умрешь, и, как собаку, закопают на Марсовом поле[6].
Тот, который сидит за низенькой ширмой парашки, тихо разговаривает с тем, который возле ширмы умывается:
— Мне сорок один год — черт знает что, опять студенческие времена переживаю!
Сидящий возле за чаем член Учредительного Собрания услыхал это и отозвался:
— Я считаю: совершенно то же самое, точь-в-точь.
— А помните цветы?
— Так это же не в студенческие годы — это принесли нам, когда нас арестовали накануне разгона Государственной Думы. Да, помните, как вошли и Чернов сказал: здесь член Гос. Думы — неприкосновенен! Дверь заперли, а Чернов выскочил в окно.
Владимир Владимирович Буш, приват-доцент — словесник, Михаил Иванович Успенский.
— Как поживаете — привыкли?
— Да, обострожился.
Чужие мысли.
Музыкант: мир заключенный и тот мир, который в движении; музыка нам открывает тот мир в движении, тот мир свыше.
— Туда отдает свое лучшее мать, ухаживая за ребенком, — сказал окружной инспектор Народных училищ.
Энтомолог сказал:
— Я пятнадцать лет работаю над изучением жизни насекомых, и вот вам пример: оса укалывает кузнечика так, что остается жив, но не движется, и кладет на него личинку. Вот, когда личинка выходит, она получает себе пищу. Она не сознает, а делает, значит, получает свыше указание. Так движется мир, подчиняясь высшему. Другие силы, напротив, идут от себя, от эгоизма, и эта сила разрушительна.
Когда нас из редакции перевезли в тюрьму, то нас встретила в настроении заключенных повышенная уверенность, что большевистский строй рушится. А мы ничего не знали...
Получаемые сведения и постепенный рост нашего настроения от чувства личной угнетенности...
Из Красного Креста нам принесли хорошие щи и по котлете — мы очень обрадовались. И вдруг староста объявил: принесли еще по второй котлете. Тогда радость была безмерной.
— Если так будет, то я отъемся здесь, и когда выйду на волю, то скажу: я пострадал!
— А если не выйдете?
— Тогда ничего: пропаду за спасибо!
И потом мы говорили долго, что вся Россия, собственно, и живет за спасибо.
Приходили с утешением: завтра (Учредительное Собрание) все двери отворятся. А потихоньку некоторым избранным сказали, что дела плохи, бой будет.
Успенский схватился за голову: дурак я, дурак! как обманулся, а ведь считался человеком неглупым (это он о народе русском).
С-й смотрит с французской точки зрения (Китай — Россия) и упорный пессимист.
Продовольственный диктатор, бухгалтер Государственного банка — тихий, с улыбочкой, всегда за делом, на вид лет 40, а так лет 60. У решетки показался арестант и просит хлеба. Не спросив Д., Ф. берет кусок и хочет дать. Д. его останавливает:
— У нас нет хлеба.
— Я не могу, не могу, я остаюсь сам, но я дам!
И дает. Д. отходит к окну и, оставшись минуту с собой, с прежней улыбочкой объясняет Ф.:
— Так нельзя!
(Внешне правдивая и внутренне ложная и совершенно пустая эгоистичная сущность Ф.)
В. М. Чернов ни при чем и, верно, всегда сидит за компанию.
5 Января. День Учредительного Собрания совпал со днем моего дежурства.
Вчера влилась в нашу камеру редакция газеты «День», и двенадцать Соломонов разговаривали об отсутствии интеллигентности и религиозности в русском народе. Ужасно, что все говорят «по поводу веры». Две партии — одни хотят видеть хорошее в народе, другие судят его по иностранным образцам.
Соломон, с пальцами, порезанными штыком, — искусный митинговый оратор — начал говорить, и так, будто всадник сел на коня и оставил грязную конюшню.
Типы: хроникеры, передовики.
Будущее: интеллигенты продолжают говорить о будущем и не могут остановиться, как бегающие заведенные детские игрушки.
Энтомолог раньше подготовлялся к общественной деятельности. Подготовился, приучился, теперь говорит, что приучает себя к смерти, думает, что можно себя подготовить так, что будет легко.
— Освобождается, освобождается!
— Кто? — спросили вблизи.
— Ящик!
А те, что за шашками сидели, — не слыхали, и тот, который из-за ширмы параши вышел, спросил:
— Кто освобождается?
— Ящик освобождается.
Староста о хлебе: не давайте, разве вы можете знать, что будет завтра? Семья, друзья — все отрезано, и человеческий мир ощущается через тех, с которыми свела судьба.
Два типа: один готовится к смерти, другой — убежать.
С Иорданью по камерам[7]: Рыжий не встал и к кресту не пошел, и только задержал у рта ложку с баландой и, когда все приложились, проглотил баланду.
В церкви «Отче наш» — этот и тот, детский. Время вдруг представилось таким коротким — будто положил кто-то меня — кусок сахару, — размешал ложечкой и все выпил.
Встреча с Авраамовым.
Надо знать, что человек, готовящийся умереть на гильотине, и человек, приготовившийся к случайной смерти, — разные люди.
6 Января. Вчера около 12-ти, когда одна часть наша сидела за шахматами, а другая спала, вдруг раздался хохот, мы открыли глаза: горело электричество, и хохотали, забыв о спящих, радовались электричеству. Через несколько минут вошел П. Н. и сказал, что Учредительное Собрание открылось и Чернов избран председателем, а власть во дворце у большевиков.
Рассуждение двенадцати Соломонов о будущем и между соседями по койкам — чиновниками:
— Ценно, что переход: большевики, потом эсеры, и потом перейдет к кадетам.
— А я думаю, образуется новая огромная национал-демократическая партия.
— Как бы национальная партия не оказалась монархической?
Настроение чиновников и Соломонов — два разные мира (там голодные семьи, тут профессиональная проституция).
Встреча земляков из Читы: лежали рядом неделю и не знали, а когда узнали, что земляки, то и не разлучаются.
Двенадцать Соломонов гложут кость, и она все белеет, белеет, и без того давно вываренная и уже давно обглоданная: интеллигенция не может верить, как народ.
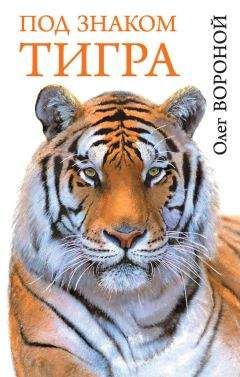
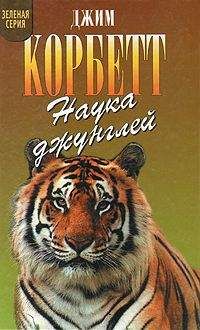
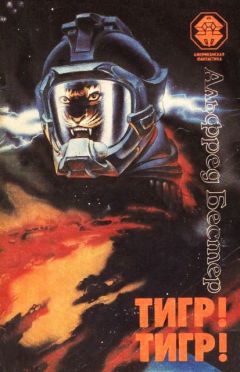

![Филип Фармер - Властелин тигр [= Владыка тигр, Бог-тигр, Властитель тигр, Лорд Тигр]](/uploads/posts/books/25287/25287.jpg)