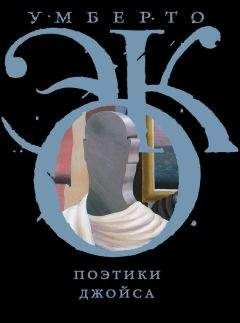Петр Тодоровский - Вспоминай – не вспоминай
Ну ладно. Был грандиозный скандал, успели ведь сообщить родителям: так, мол, и так — пропал ваш сыночек. Утром, когда он, этот Рэм, заявился, пришлось перезванивать родителям, успокаивать их, мол, явился ваш сыночек… Рэма в этот же день отправили домой; он так скучал по Нюре, что взял и написал покаянное письмо: попросился снова на уборочную… Но тут как раз и началась война.
Все это мне рассказывал он после Волги, когда мы лежали на гауптвахте — так, знаете, сырой полуподвал и зарешеченные окна. Он все бормотал, а я думал о своей незнакомке. Не мог забыть ее глаза, серые, огромные и широко расставленные, хоть бери и рассматривай их по отдельности… Да, я как раз познакомился (если это можно назвать знакомством), когда перемахнул через забор училища с почтовым переводом на шестьсот рублей от старшей сестры.
Я не знал, где тут почтовое отделение и какой-нибудь рынок. И только я перемахнул через забор, вижу — идет ОНА! Первая попавшаяся. Я спросил ее. Она объяснила. За это короткое время я успел ее рассмотреть: глаза, волосы — копна соломенных волос, — аккуратный носик и пушистый воротничок вокруг шеи. Но спросить ее имя и всякое другое не решился, потому что дурак. Где мне ее теперь искать?! Что ж мне теперь, каждый день прыгать через этот забор и торчать на этой маленькой, горбатой улочке в надежде, что она вдруг появится?.. А может, она вообще живет в другом районе города Саратова, а здесь оказалась случайно: была у подружки или по делам… Рэм все талдычил про свою Нюру, а я не мог уснуть, все думал о «своей» незнакомке, которую, как сейчас понимаю, потерял навсегда. Надо было задержаться хоть на минуточку, глядишь, узнал бы ее имя, где живет, может, даже свидание назначил… Так нет же! В глазах торчала буханка хлеба. Я ее поблагодарил, вскочил на подножку трамвая и… Да что теперь говорить — проворонил, сиди и кукуй!
Вообще-то Рэма призвали в армию из Астрахани. Он сам, оказывается, астраханский парень. Про Ленинград он наврал. Утром, когда нас освободили, он признался, что никогда не был в Ленинграде, но всю жизнь мечтал увидеть этот город, который он знал как свои пять пальцев. У него был альбом «Виды Ленинграда», ему отец подарил этот альбом. А сам он родился в Астрахани. Их семья всю жизнь кочевала, отец военный, подполковник: и в Архангельске жили, и где только не жили! Отец на Халхин-Голе воевал и на финской, а спустя три месяца после начала большой войны они с матерью получили похоронку. Отца убили где-то под Смоленском… Потом, когда Рэм из пулеметного батальона перебрался к нам, в минометный, мы с ним крепко подружились: он, Юра Никитин и я. Рэм по ночам, перед сном рассказывал нам нескончаемую историю про какого-то испанского разбойника Азоло де Базана, его интересно было слушать. Или про пещеру Лейхвиста… Вот завалимся на нары после тяжелого морозного дня, угреемся — Рэм посередке, а мы с Юркой Никитиным по бокам, — и слушаем про Азоло де Базана… Такой начитанный парень оказался, мы крепко подружились. И каково было наше изумление, когда старшина на утренней перекличке назвал Рэма Райского Ивановым! Он, оказывается, был Иванов. Сергей Иванов! Вот те на! Мы долго смеялись и про Рэма быстро забыли. Сергей стал как-то ближе. А то — Рэм?! Вот прижмемся друг к дружке на нарах, накинем шинели поверх легких одеял и слушаем про красавца, любимца всех женщин Испании Азоло де Базана. Наша троица была неразлучной. Сергей бормочет, и под его бормотание мы засыпаем… Сергей был большим выдумщиком, фантазером. Вначале он признался, что его настоящее имя не Рэм, а Вилен. То есть Владимир Ильич Ленин. Но ему это имя не нравилось, и он придумал себе более яркое, короткое, как гонг: Рэм. Его мать играла на гитаре. Она пела в основном старинные вальсы под гитару. Сергей запомнил их, он напевал нам эти вальсы и сам кружился по казарме. Он и стал в нашей роте лучшим запевалой. Вот идем зимой в столовку, конечно, в одних гимнастерках (мороз градусов пятнадцать! Это для закалки), уставшие, голодные, мечтаем скорее бы добраться к еде, а тут старшина командует: «С места с песней шаго-ооо-м арш!» Молчок. Тогда старшина (звали его Панасюком) командовал: «Прожектор! Ракета-аа!» По этой команде мы шлепались на землю, замирали. «И не шевели-иись!» — орал Панасюк. И снова: «С места с песней шаго-ооо-м арш!» Сергей сжал губы, молчит. «Запевай, гад! Жрать охота!» — гаркает кто-то в строю. И Сергей, наконец, поет: «Скажи-ка, дядя, ве-едь не даром, Москва, спале…» «Москва, спаленная пожаром», — подхватывает рота. «Фра-ан-цу…» — поет Сергей. «Францу-узу отдана», — в сто двадцать глоток несется по всему училищу. «Ведь были ж схва…» — Сергей. «Ведь были ж схватки боевые»… Панасюк — мужчина лет тридцати. Злющий, как Малюта. Его не любили. Однажды Сергей вместо строевой запел: «Утомленное солнце-еее…» И вся рота подхватила: «Нежно с море-еем проща-аалось». «В этот час ты призна-аалась», — Сергей. «Что нет любви», — вся рота. «Отставить! — орет Панасюк. — Давай строевую!..» За малую провинность Панасюк наказывал по полной программе. Однажды (это случилось в самом начале жизни в училище) он сделал мне замечание, мол, у меня малая лопата подзаржавела. Я сказал, что с ней ничего не случится. Что я есть хочу, Панасюк освободил меня от занятий и заставил выдраивать сто двадцать малых лопат всей роты. Песком, сдирая кожу на руках, я двое суток чистил лопаты, пока они не стали блестеть, как яйца у мерина.
Но, что бы я ни делал, чем бы ни занимался, в голове назойливо сверлила одна и та же мысль: как найти «мою» незнакомку, девушку с копной соломенных волос из-под вязаной шапочки и широко расставленными глазами. Дело дошло до того, что я ухитрялся после отбоя потихоньку выбираться из казармы и подолгу стоять на этой горбатой улочке, на которой встретил ЕЕ. Топчусь на одном месте, гляжу вдаль: слева длинный забор училища, справа — хилые деревянные домишки, утопающие в сугробах. Но нет. Она не появлялась. Тишина. Темнота.
* * *Шли тяжелые бои в Сталинграде. Нас стали кормить из рук вон плохо: утром — каша, в обед — капуста, а вечером — тушеная капуста… И вот — чудо: меня и Сергея назначают дежурить на кухне. Всю ночь колем дрова, носим воду, моем посуду, чистим котлы. Зато утром дали вдоволь перловой каши — «шрапнель». И вот посылают нас с буфетчицей в город на хлебозавод за хлебом. Стоим мы с Серегой в будке, качаемся в темноте по ухабам в предвкушении — уж на хлебозаводе-то угостят хлебом. Как говорится, сам Бог велел! Наконец машина замедляет ход, в будку проникает до боли желанный запах хлеба. Он окутывает нас со всех сторон, полной грудью вдыхаем его запах, ноздри раздуваются… Машина замирает. Распахиваются дверцы и… У борта стоит буфетчица.