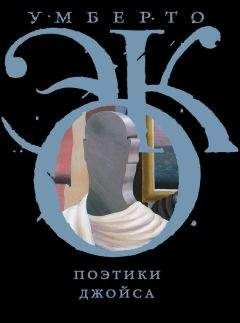Петр Тодоровский - Вспоминай – не вспоминай
Сергей молчит. Он ничего не слышал. Он спал.
Всеобщий хохот.
* * *Но в этой закупоренной землянке, наполненной настоящим газом малой концентрации, выжить невозможно. Сколько можно не дышать? Тридцать секунд, ну, минуту, а резьба коробки никак не входит в отверстие маски, и ты, как рыба, выброшенная на берег, наконец разеваешь рот и получаешь порцию газа. Дикий кашель тут же раздирает глотку, руки дрожат, и тебя, полудыханного, вытаскивают из землянки. А начхиму хоть бы что! Сидит в противогазе и наслаждается, видя, как задыхаются курсантики. После очередных занятий Юра Никитин неделю отвалялся в санчасти. Мы поняли: надо начхима проучить.
В тот день майор Педик дежурил по училищу. После отбоя он закрылся в кабинете, погасил свет, улегся на диван в сапогах, накинув на себя шинель. Его кабинет находился на первом этаже. В час ночи, когда дневальный уронил голову на локти, наша тройка выбралась из казармы, подкралась к окну, где спал майор Педик, мы зажгли малую дымовую шашку и на веревочке через распахнутую форточку тихо опустили на пол. А форточку заклинили…
Начхим, майор Педик, трое суток провалялся в санчасти. Его с трудом откачали.
…Как назло, к вечеру погода испортилась: подул сильный ветер, стало быстро темнеть. Горбатая улочка опустела, даже старухи быстро собрали свои манатки, смылись… Никого. Кто в такую погоду решится высунуть нос? Никто. Тем более ОНА. Стою, топчусь, прохаживаюсь вдоль забора, всматриваюсь в сероватую мглу. Прошло более получаса, как я перемахнул через забор, а ОНА все не идет. Когда я стал уже терять надежду, вдруг мне почудилось, что там, на самом верху горбатой улочки, в сгустившихся сумерках показалась фигурка. Все ближе, все ближе… Неужели ОНА? Да, ОНА! Я протер замерзший нос, сделал шаг навстречу.
— Я уж думал не придете…
— Давно здесь?
— Да нет. Минут пять, — соврал я.
— А нос посинел, — и улыбается.
— Он у меня не любит мороза. Ветер…
— Что будем делать? — спрашивает она.
— Пока в ресторан не могу вас пригласить, — дурацкий смешок.
Она снова улыбнулась. Помолчали. И вдруг:
— Есть идея! — оживилась Янина. Я вопросительно кивнул.
— У меня дома мать. Больная. А квартира не топлена. Давно перестали топить. И дрова кончились…
— Намек понял! — радостно воскликнул я.
Быстрым шагом мы поднимаемся вверх по горбатой улочке в самый дальний участок училища, где забор делает изгиб в гущу голых деревьев. Там-то мы и начали отрывать от забора доски. То есть отрываю я, а Яна следом подбирает большие и малые куски, не пропуская ни одной щепки.
Подпись на обороте: «Личность Гвардии лейтенанта Тодоровского заверяю. Нач. Штаба Гв. майор Педик. 20 ноября 1947 г.»
— Может, хватит? — шепчет она. — Опасно.
Но меня уже не остановить. Вошел в раж:
— На завтра ведь тоже надо, правда?
— Правда.
— И на послезавтра…
— А вы завтра сможете освободиться?
Я осмелел:
— Может, перейдем на «ты»? — говорю, продолжая вырывать доски. — Ты учишься?
— В вечерней школе. Заканчиваю десятый. А днем в госпитале, на подхвате. Пошли, я боюсь.
Последняя доска издает такой жуткий треск, что где-то совсем рядом залилась собака.
Две смежные комнатки с окнами-бойницами. В дальней на кровати с металлическими шариками лежит мать Янины. На ней — два одеяла, поверх них телогрейка и пуховый платок.
— Мама, это — Петя, — говорит Янина, засовывая доски в печурку. «Буржуйка» стоит посреди комнаты, от нее труба идет прямо в закупоренную форточку.
— Не раздевайтесь, — говорит мать Яны, видя, что я собрался снимать шинель. — Меня зовут Эйжбета Даниловна.
— Эйжбета?
— Мама полячка, а папа русский. Воюет.
— Да, я — полячка, а мой муж и отец — русские, — подтвердила Эйжбета Даниловна. У нее запрыгал кончик носа, глаза наполнились влагой. — Садитесь, что вы стоите?
Она — копия Яны.
Я присел на краешек стула, снял ушанку. При выдохе изо рта идет пар. Почти как у нас в казарме. Смешно.
— Ну-ка, растапливай печку! — Яна протягивает мне бутылку с керосином. — Только экономно!
Я плеснул на доски. Поджег. Доски были сырые, комната мгновенно заполнилась дымом, так что пришлось приоткрыть входную дверь.
— Угости мальчика, — говорит Эйжбета Даниловна.
— Я сыт. Что вы!
— Сиди! — она достала банку американской тушенки, консервный нож, протянула мне. — Открывай! Раненые подарили…
— Ей-богу! Я сыт. Нас кормят, — говорю, открывая банку.
— Знаем, как вас кормят.
Наконец дрова разгорелись, «буржуйка» запела, раскраснелась. Сидим с Яной за столом, уминаем американскую тушенку с картошкой. Потрескивают дрова в печурке, над столом висит «тарелка» радио. Звучит баркарола Чайковского. Как будто и нет никакой войны.
Эйжбета подперла голову рукой, сбросила ворох одеял, смотрит на нас — юных, здоровых. Тепло, уютно, хорошо.
* * *И вот событие — к Сергею из Астрахани приехала мать.
Мы чистили оружие: стоим за длинным столом, разбираем свои винтовки образца 1897-1912 годов, смазываем детали, переговариваемся, — когда вдруг дневальный гаркнул на всю казарму: «Иванов! Сергей!.. Беги на проход — к тебе мать приехала!»
Сергей обалдело смотрит на нас, стоит как вкопанный, словно ноги у него отнялись, не может сдвинуться с места.
— Чего стоишь? Беги! — говорит Никитин.
— Ребята, пошли?! — дрожащим голосом просит Сергей.
— Мы-то зачем?
— Прошу, пошли, а? — и тащит нас за руки.
И вот несемся мы втроем к проходной…
— Ма-аа-ма-а!
Сергей прижимает к груди миловидную женщину лет сорока пяти, не больше, а мы смотрим на ее слезы, безмолвные ручейки, ползущие по щекам.
— Как добралась? — еще сжимая в своих объятиях мать, спрашивает сын.
— Добралась… А исхудал-то как…
— А это мои друзья: Юра и Петр.
— Антонина Васильевна, — представляется она и достает из торбы сухари, нам и Сергею.
Мы стали отнекиваться, но Сережа сунул в руки по два сухаря, а для примера громко откусил полсухаря. Стоим, значит, в проходной, жуем сухари такие вкусные. Так, что у Юрки уши движутся в такт челюстям — вверх-вниз, вверх-вниз. Антонина Васильевна уже протягивает сухарик сержанту, дежурному.
В проходную заходит майор. Недоуменно смотрит на нас. Ему пройти никак не возможно — мы полностью заполнили проходную. Прижимаемся к стене, образуя узкий проход, прикладываем руки к вискам, во рту торчат сухари.
— Что за базар? — майор возмущен.
— Ко мне мать приехала, — радостно сообщает Сергей, предварительно вынув изо рта сухарик.