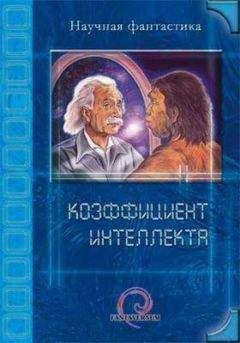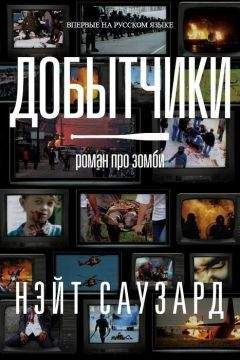Андрей Аникин - Адам Смит
Они стряхивает с плащей воду и снимают их в прихожей. Старый слуга проводит обоих наверх, в кабинет хозяина.
«Похоже, — что старику недолго осталось. Вовремя он занялся завещанием», — думает нотариус, глядя на клиента.
И в самом деле, черты Смитова лица заострились, тонкий нос с горбинкой выдается над впалыми щеками, светло-голубые, точно выцветшие, глаза ушли глубоко в коричневатые глазницы.
Несмотря на явное недомогание, Смит держится в своем большом кресле, как всегда, прямо и чуть-чуть строго, одет и побрит безукоризненно. Парик тщательно завит и напудрен. Парики выходят из моды, но старику уже поздно менять привычки.
Писец начинает гнусаво и медленно читать:
— «Я, Адам Смит, доктор прав, один из комиссаров таможни его величества в Шотландии, из любви и благосклонности, которые я питаю к моим друзьям и родственникам, поименованным ниже, и для лучшего устройства моих дел на случай смерти…»
Нотариус знает завещание наизусть. Оно не очень большое и, вопреки разговорам в городе, касается весьма скромных сумм и владений. Почти все пойдет единственному близкому человеку одинокого старика — его любимому племяннику и воспитаннику Дэвиду Дугласу. Взгляд нотариуса останавливается на юноше, который стоит за креслом Смита. Его специально вызвали из Глазго, где он изучает право.
Дэвид отлично известен нотариусу. Его сын учился вместе с Дэвидом в городской школе. Третьим в их компании был слегка меланхоличный хромой мальчик — Вальтер Скотт-младший, сын хорошо известного в городе джентльмена. Все трое готовятся теперь стать юристами.
Смит слушает совершенно равнодушно, с полузакрытыми глазами. Неизвестно, слышит ли он монотонный голос писца. Лишь когда тот доходит до библиотеки, Смит медленно поднимает веки и окидывает взглядом ряды книг. Старинные переплеты из сафьяна и кожи, золотое тиснение тяжелых томов; лондонские, парижские, амстердамские издания. Единственно, в чем он всю жизнь был щеголем, — это в своих книгах. За последние двенадцать лет, с тех пор как его доход подскочил на 600 фунтов в год — жалованье таможенного комиссара, — библиотека увеличилась раза в три.
Взгляд нотариуса следует за движением глаз Смита.
«Вот где его деньги. Говорят, эта библиотека стоит тысяч пять. Но едва ли Дэвид станет ее продавать».
Чтение подходит к концу. Рука Смита заметно дрожит, когда он с трудом, выводя каждую букву, пишет свое имя. Подписывается свидетель — слуга доктора, известный всему городу преданностью своему хозяину.
Нотариус желает доктору скорейшего выздоровления, и посетители уходят. Дэвид сообщает, что ему надо повидать друзей, и обещает быть к обеду. Смит остается наедине со своими книгами и мыслями.
Теперь можно подумать и о смерти. Как говорил Цицерон, смерти не надо желать, но не следует и беспокоиться о ней. Да, древние умели умирать! У них это называлось — присоединиться к большинству.
С тех пор как он через силу закончил корректуру нового издания своей «Теории нравственных чувств» и перестал ходить на службу, он чаще всего читает греческих трагических поэтов и римских философов. Память его как будто стала еще острее и отчетливее. Когда приходит с новостями коллега по таможенному управлению, любитель классики, Смит иногда декламирует ему на память целые страницы Еврипида, а тот отвечает хозяину Софоклом.
Но сегодня читать не хочется. Вот разве этот томик. Смит, не вставая с кресла, достает из шкафа небольшую книгу, на титульном листе которой старым, вышедшим уже из употребления шрифтом напечатано: «Eutropii Historiae Romanae Brevarium, in Usum Scholarum. Edinburgh MDCCXXV»[2].
Перевернув лист обратно, он видит на форзаце старательно выведенные круглым детским почерком слова:
«Адам Смит. Его книга. 4 мая 1733 года».Это был первый латинский учебник десятилетнего Адама — ученика городской школы в Керколди. Мать купила его за год до того, как добрейший мистер Миллар, старый учитель школы, начал обучать мальчишек прекрасному языку римлян и языку современной науки. Но свое имя на книге Адам написал в конце первого года обучения латыни, когда он уже мог по складам разбирать первые страницы Евтропия. В тот день все подписывали свои книги. Адам набрал на перо слишком много чернил из вделанной в стол чернильницы и едва не посадил кляксу, но вовремя сбрызнул излишек чернил на стол.
Бесчисленное количество книг по-латыни, по-гречески, по-английски и по-французски прочел с тех пор доктор Смит, но ни одну из них он не помнит так хорошо, как школьного Евтропия. Он помнит, на какой странице рассказывается об убийстве Цезаря и о мрачном злодействе Тиберия. А вот и большое жирное пятно, которое он посадил на описание Иудейской войны. В тот день мать испекла миндальный пудинг, и он попросил второй кусок… Мать дожила до 90 лет и умерла всего шесть лет назад.
Кажется, Френсис Бэкон сказал: для молодого человека жена нужна как любовница, для человека средних лет — как друг, а для старика — как нянька.
В молодые годы он дважды — в Эдинбурге и Глазго — был близок к браку, но оба раза все как-то незаметно расстраивалось. Мать была всегда его добрым ангелом, кормила и лечила его. Друзья у него были и есть очень близкие: Юм, Блэк, Хаттон. Знаменитого химика профессора Блэка и геолога профессора Хаттона он только что назначил в завещании своими душеприказчиками.
Пожалуй, теперь ему уже не нужна и нянька.
Задумчивый взгляд Смита останавливается на полке с изданиями его собственных сочинений. Их много. «Теория» вышла в Англии шесть раз и дважды издана во Франции. «Богатство народов» вышло в Лондоне пятью изданиями, а недавно он получил экземпляр первого американского издания. Книга издана несколько раз в Ирландии, во Франции, в Германии, в Дании. Бентам[3] пишет из далекого Петербурга, что там его труд хорошо известен образованному обществу.
Смит не знает, сколь разная судьба ожидает обоих его детей. «Теория» будет почти забыта; не она обессмертит его имя, а, наоборот, имя Смита предохранит книгу от забвения. Зато «Богатство народов» будет, может быть, самой важной книгой XVIII столетия. Через 70 лет автор «Истории цивилизации в Англии» викторианский либерал Бокль напишет:
«Об Адаме Смите можно сказать, не боясь опровержения, что этот одинокий шотландец изданием одного сочинения больше сделал для благоденствия человечества, чем было когда-либо сделано совокупно взятыми способностями всех государственных людей и законодателей, о которых сохранились достоверные известия в истории».
Правда, одинокий шотландец имеет и при жизни представление о своей роли. Он — наставник английских премьеров. Вождь вигов граф Шелберн публично объявил себя его учеником и, находясь в отставке, на досуге занимается политической экономией с «Богатством народов» на столе.