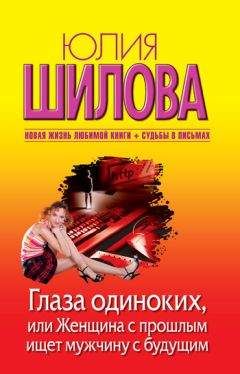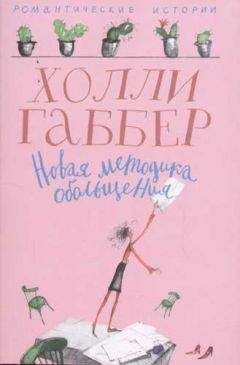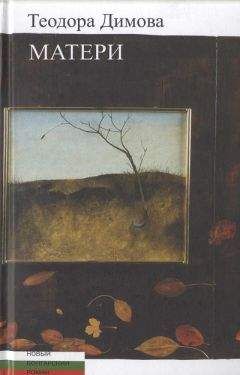Наби Даули - Между жизнью и смертью
- Русски, вег, вег!* - закричал он и принялся отгонять бабку.
_______________
* "Прочь!"
Но та не уходила.
- Сынки мои, сыночки! Спаси вас господь... - повторяла она, вытирая глаза уголками платка.
Слова старой матери навсегда запали мне в душу. До сих пор стоит у меня перед глазами ее горестное лицо. Может быть, женщина на другой же день умерла на головешках своего сгоревшего дома. Я склоняю голову над ее прахом... Встреть я сегодня ту маленькую девочку - я не узнал бы ее. Но никогда не изгладится в моей памяти ее образ. Милая, если ты жива, будь счастлива! Мы не смогли напиться из твоих маленьких ручек. Но как мы были рады вам! Как было дорого, что мы не были забыты на родной земле...
Деревня осталась позади. Заблестел Днепр. За рекой виднелся город, над которым стояла туча дыма. На окраине горели какие-то баки, и один за другим раздавались взрывы. До города оставалось еще изрядно, а густой запах пороха и гари уже саднил горло.
Перед тем как войти в город, нас остановили. Вскоре навстречу подъехали грузовики, крытые черным брезентом.
- Боятся пешком вести нас по городу, - заметил кто-то рядом со мной.
Нас рассадили по машинам.
Улицы, по которым мы ехали, лежали в развалинах. Скоро машины остановились возле зданий, построенных почти впритык друг к другу. Это была Оршанская тюрьма.
Окна и стены ее зияли пробоинами. Немцы обнесли тюрьму колючей проволокой. У ворот торчали две вышки, на которых поблескивали подвесные прожектора.
Ворота были распахнуты. Три пулемета уставились дулами в тюремный двор. Возле них сновали немцы в стальных касках. Черные машины с пленными одна за другой въезжали во двор. Это был один из первых лагерей, устроенных немцами на советской земле.
Отсюда начался мой долгий путь невольника.
ЛИЦОМ К ЛИЦУ
В камере нас оказалось человек тридцать. Мы не знали друг друга: все были из разных частей - и разведчики, и артиллеристы, и пехотинцы... Но общая беда объединила нас. Мы быстро перезнакомились и уже начали поверять друг другу, где и кем служили, как попали в плен; рассказывали, где родились, кем работали в "гражданке".
Этот откровенный разговор напрашивался сам собой. Нас ожидала неведомая, но уж во всяком случае не радостная участь, - и сейчас каждому хотелось поближе узнать своих товарищей по несчастью.
Говорили обо всем. И лишь об одном никто не проронил ни слова: кто из нас коммунист и кто комсомолец. Эту тайну каждый молча берег в глубине своего сердца - ведь впереди еще предстояло немало жестоких испытаний.
К какой бы национальности ни принадлежал каждый, перед немцами все мы одинаково представали прежде всего русскими солдатами. Это роднило нас друг с другом как братьев.
Рядом со мной сидел рыжеволосый молодой солдат. Одна рука у него висела на марлевой перевязи. Кровь проступила сквозь рукав гимнастерки. Видно было, что солдату плохо. Он молчал и болезненно морщился, облизывая горячие сухие губы.
- Что, тяжело? - спросил я его.
- Нелегко, - ответил он, силясь улыбнуться.
- Рана серьезная?
- Плечо осколком разворотило, черт бы его побрал, - беспокойно ответил мой сосед.
Слово за слово, и мы познакомились. Рыжеволосый оказался моим земляком. До войны он работал на станции Юдино, в депо, ремонтировал поезда. Когда я назвался казанцем, парень ожил, лицо его просветлело. Обрадовался и я: может быть, только среди горя и бедствий чувствуешь, какое счастье встретиться с земляком. Соседа звали Мишей.
- А тебя как зовут? - спросил он.
- Набиулла.
- Значит, татарин. Я сразу так и подумал. Земляков я узнаю.
Шевеля губами, Миша повторил про себя мое имя.
- Трудное, не запомнить. Давай я тебя буду звать Николаем, предложил он.
- Почему Николай, а, скажем, не Павел?
- Нет, "Павел" не годится. Имя-то у тебя начинается на "эн", значит, Николай и подходит.
Возражать я не стал. С этого дня я и для других стал Николаем.
- Куришь? - спросил меня Миша.
- Закурил бы, да нечего.
- Я вот не курю, а табак есть. Порцию свою я всегда товарищу отдавал. А он...
- Убит?
- Да, убит, убили. Хороший был друг.
Миша помолчал.
- Достань у меня махорку из правого кармана. Сверни и мне, а то сердце огнем печет. Может, от дыму полегчает.
Мы закурили. Махорка тотчас пошла по рукам. Табак оживил людей. Кто-то уже начал шутить.
Миша с непривычки тяжело закашлялся. Лицо у него побагровело, на глазах выступили слезы.
Уже вечерело. В тюремной камере, и без того сумрачной, стало еще темней. Стекол в окнах не было. Оконные проемы немцы густо переплели поверх решеток колючей проволокой. За решетками виден тюремный двор и ворота. В них то и дело въезжают машины, пленных становится все больше и больше. Они уже не вмещаются в здании и группами сбиваются во дворе, под открытым небом. Раненые жмутся к стенам, со стоном опускаются на землю.
Слышно, как перекликаются люди:
- Кто из Москвы?
- Туляки есть?
- Из Харькова кто?
В ответ раздается:
- Я из Москвы!
- Я из Тулы...
Эта тревожная перекличка звучит жутко и печально, словно люди заблудились во тьме.
Над воротами ослепительно вспыхивают прожектора. Их лучи белыми змеями тянутся во двор, скользят по стенам и, словно в гнезда, прячутся обратно в металлические коробки.
Люди еще не могут опомниться. Только что доставленные сюда с поля боя, они чувствуют себя точно в каком-то кошмаре. Ум бессилен объяснить происшедшее. А время идет, и вместе с ним все глубже охватывает пленного солдата гнетущее чувство неволи. Поначалу он мечется, точно птица, попавшая в силок, но всюду, куда он ни сунься, - колючая проволока, холодные стальные стволы, часовые в рогатых касках. Только тут он по-настоящему осознает всю тяжесть случившегося, и начинается мучительная тоска по свободе.
Миша спит. Я сижу рядом. Какие только мысли не лезут в голову!
До нас доносится гул самолета. Чей он? Все напряженно прислушиваются:
- Наш!
- Фрицам гостинец привез...
Слышно, как рвутся бомбы. Их грохот пробуждает в нас какую-то надежду. Ведь фронт еще близок.
- Эх, если б наши под утро ворвались в Оршу, вот были бы дела! восклицает кто-то.
- А что ты думаешь, - поддерживает его другой. - Самолетов у нас, что ли, нету? Возьмут да сбросят десант! Вот и капут фашисту! С нашими, брат, не шути...
От этих слов становится легче. Всей душой хочется верить в них.
Темнота густеет. Во дворе пытаются разжечь костер. Но едва чиркнула спичка, как у ворот застучал пулемет. Кто-то падает, вскрикнув.
- Свет не зажигайт! - кричат у ворот на ломаном русском языке и щелкают затвором. По двору опять проползает яркий сноп света.
В нашей камере тихо. Солдаты улеглись, сбившись по двое, по трое. Но нам не спится. Каждый думает об одном: как быть?