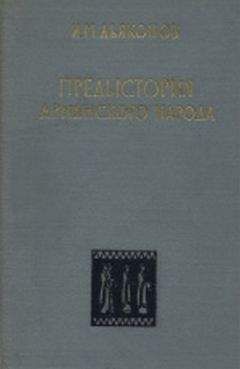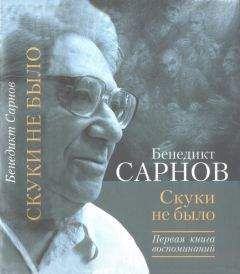Игорь Дьяконов - Книга воспоминаний
Это все было раньше. А жизнь связная, день за днем, началась много позже — с того дня, когда я проснулся в светлый день на своей кроватке дома, в Петрограде, и увидел: папа что-то делает на столе, а Миша ему помогает. Я стал скорее вставать, а папа повесил в нашей комнате громаднейший план океанского парохода, на котором были нарисованы в разрезе каюты, машины, трапы, коридоры, две трубы, капитанский мостик и многое другое. Мне помнится, что папа сам нарисовал его, но, вероятно, я ошибаюсь — папа так чертить не умел.
Мы живем на Каменноостровском проспекте (он же — улица Красных Зорь), дом 63, квартира 25. Вход к нам со двора. У нас четыре комнаты — папин кабинет, где уютно и темновато, на кушетке черный ковер, вышитые желтой, красной и белой ниткой черные мутаки и подушки. Есть подушка с попугаем, у которого можно вертеть глаз; ее сделала еще папина бабушка; но в кабинете я редко. Потом столовая — это неинтересно; потом детская; здесь у меня свое место — парта, а у Миши — стол. Но игрушек у меня нет — у Миши был дифтерит, его заперли в мамину спальню, и все игрушки спрятали в шкаф (в 1919 году не устроить было дезинфекции). Через год шкаф открыли, дали мне игрушки, и тут заболел дифтеритом я. Мама сожгла вес игрушки на кухне. Жгла и плакала, мне их не было жалко, кроме огромной лошади. Но вместе с игрушками сожгли и мои книжки. Я очень жалел «Слоника Моку» и еще одну книжку, необыкновенную книжку про остров — государство детей: там все были дети — от царя до дворника; кому исполнялось десять лет, должен был уехать.
Часто в ночных мечтах я воображал себя на детском острове, придумывая все новые и новые подробности.
Мамина спальня — это очень хорошее место; можно забраться утром в мамину кровать, чтобы она рассказывала сказку про козу.
Но самое лучшее — это мамина кунья пелеринка; когда холодно, можно под нее забраться, и это значит, что мы — Миша и я — мамины птенчики.
Без игрушек скучно. Я вечно брожу по комнате и ною: «Ма-а-ма, я не знаю, что мне делать! Ма-а-ма, я не знаю, что мне делать!» Это кончается тем, что меня шлепают и запирают в ванную, и тогда приятно думать, как меня будут жалеть, когда я умру.
В комнатах сначала были какие-то шкафы, портьеры, но позже стало меньше вещей: каждый месяц приходила молочница и выбирала, что из вещей ей взять за молоко. А до того мама ходила в «Каплю молока» и сама приходила с молоком:
Ваша мама пришла,
Молочка принесла
Это было очень хорошо, голос был такой мягкий и симпатичный, — почти как ночью, когда я ложился спать, и мама должна была прийти, приласкаться смуглой мягкой щекой к моей щеке и сказать: «Куры-муры, мои сынуры, спите, мои милые, хорошие». Кто придумал эти слова — неизвестно, но от них внутри делалось как-то тепло, и без них спать было никак невозможно. «Мама, иди куры-муры!» А если она была в хорошем настроении и никуда не торопилась, можно было ее попросить показать колечко и восьмерку папиросой. И потом — спать.
Но мама — это не главное. Главное — это Нюша и Миша. Мама всегда занята: то с Аликом (его недавно принесли из больницы, где он вылез из маминого живота; он был синий и весь покрыт волосками), то на рынке, то в «Капле молока». Нюша мне читает книжки, а потом вдруг я ей читаю, и все удивляются.
С Мишей еще интереснее. У него свитер, расчесанные на бок волосы, большие серые глаза, которые жалобно смотрят, когда его бранят. Разговаривать с ним очень интересно, потому что он все понимает. С ним мы играем в Троянскую войну: строим из кубиков Трою, и её осаждают маленькие жестяные значки с нарисованными на них аэропланами, пушками и тому подобными вещами. Если значок перевернется, значит, он убит. А если встретятся два важных значка — например, Ахиллес и Гектор, — то нужно устраивать единоборство: я — Гектор, а Миша — Ахиллес, и меня убивают; это не очень хорошо, и я говорю, что Гектор должен когда-нибудь проколоть Ахиллеса, но это Миша позволяет очень редко. Правда, иногда Миша делает нехорошие вещи: например, он дал мне есть уголь от самовара, и говорит, что это очень полезно, а другой раз крючком хотел вывернуть мне ноздрю, но я на него не сержусь. Потом Миша нарисовал большую карту придуманной страны Ахагии. Я эту карту хорошо знаю, знаю все города, реки и железные дороги, и на глобусе могу найти место Ахагии в Тихом океане — там, где синие линии течения заворачивают кольцом и стоит фабричная марка. Миша еще без меня написал много книг; у него псевдоним: Хуан де Крантогран, только его романы — «Охотники за леопардами», «Дон Порфадио де Рребан» и другие я читать не могу, потому что они написаны письменными буквами. Потом он написал интересную книгу про полет на Марс и про марсианина Гои-Бизаи-Навура; папа ее перепечатал на машинке. Это я прочел. Пишет он и стихи. Первые были сочинены в болезни, в дифтеритном бреду:
Это мне рассказывала стенка,
Когда отблеск лампы падал на нее,
Там блестели золотые буквы «Н.K.»,
Светом огненным покрыто было все.
Приятно жутко, таинственно и непонятно. И никто, даже сам Миша, не знает, что это были за буквы «Н.К.». Потом уже стихи серьезные:
Небосклон туманный смотрит тупо,
Утомленный город задремал.
Лампа стол мой освещает скупо,
Звезд не видно, месяц не вставал.
Иногда глаза автомобиля
Прорезают дремлющую мглу,
И она ворота отворила
И бежит, дорогу дав ему.
Всюду жуть безмолвия ночного…
Лишь гудок провоет на реке,
Прозвучит он словно стон больного
И замолкнет где-то вдалеке.
Конечно, я сразу запоминаю его стихи наизусть, твержу их, и они становятся для меня — как бы это сказать? — каким-то отсветом, ложащимся на всю нашу жизнь.
Со времени моего приезда Миша романов не пишет, — а стихи — редко. Теперь Миша пишет пьесы, читает мне их, рассказывает про театр. Кроме того, он сделал картонный театр с картонными же раскрашенными персонажами, которых Миша двигает с двух сторон на палочках, почти не видных из-за нижнего бордюра сцены — «рампы».
Сам я читаю «Крокодила» Чуковского и тоже пишу пьесу про слона Кöука, только не знаю, сколько в ней должно быть действий. Но это узнать не так трудно: нужно взять Шекспира, найти «Гамлета» и сосчитать, сколько там сцен. Гораздо труднее написать столько же сцен. Я пишу всю зиму, каждый день, со страшной скоростью, печатными буквами, глядящими то вправо, то влево и превращающимися как бы в особую малопонятную скоропись, и кончаю только 25 апреля 1920 года. Прочесть мое писание может только Миша. Правда, папа тоже раз взял мою пьесу почитать маме; они с трудом прочли первые страницы и к моему недоумению и обиде смеялись до упаду, до слез. О чем там было написано, я расскажу отдельно.
Хотя старые были сожжены, у меня опять появились свои книжки — «Крокодил», «Конек-Горбунок» и еще что-то, но я стараюсь читать то же, что читает Миша. Только всего Шекспира мне не прочесть. Я спрашиваю у Миши, все ли он читал; оказывается, он не знает «Перикла», «Цимбелина» и еще несколько пьес. Тогда я достаю Шекспира и принимаюсь за «Перикла»: хотя я и не читал все то, что Миша, зато я читал то, чего он не знал. Впрочем, я не только читал «Перикла», сидя на столе, но тут же разыгрывал действие, двигая на палочках романтических персонажей, без спросу заимствованных из Мишиного кукольного театра.
Миша ходит в школу в «Г-класс». Я знаю, что это иначе называется — «2-й класс гимназии».[6] Знаю, что и мне когда-нибудь придется пойти в школу, и мне страшно: чтобы учиться в школе, нужна, как мне кажется, храбрость — ведь можно провалиться. Школьник подходит к столу учителя, и если он не знает урока — учитель нажимает кнопку, под ногами виновного открывается люк. Хорошо еще провалиться из второго класса, хотя и то можно поломать руки и ноги; а каково провалиться из 7-го класса? Ведь тогда летишь сквозь все этажи!
Но Миша этим не смущен. В школе, как видно, ему нравится. У него интересные товарищи, с которыми он играет в большом саду напротив — в крокет и еще во что-то: Лена Разумовская, Оля Розенштейн, Наташа Мочан, Костя Петухов, Воля Харитонов, Юра Долголенко, Шура Любарская, Люба Аплаксина, они и со мной играют тоже. Миша и его товарищи к детям не относятся — им по 12 лет и они почти то же самое, что взрослые, только с ними интереснее. А у меня всего один товарищ — Сережа Донов. Он старше меня на два года и очень умный: он спросил, знаю ли я, что такое вулкан, я не знал, и он объяснил, что это — огнедышащая гора, а я все равно не понял.
У Шекспира герои всегда влюбляются — и я тоже. Я влюблен в большую английскую девочку Виви Брэй. Она живет в первом этаже с улицы, и я долго жду, чтоб она вышла на свой большой каменный балкон, чтобы сказать ей «Хаудуюду».
И еще я слушаю, о чем говорят взрослые.