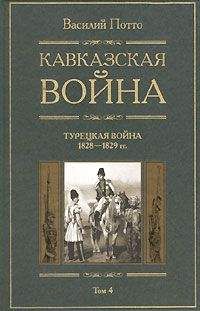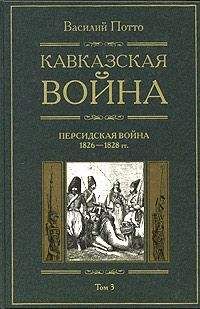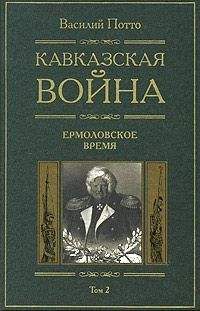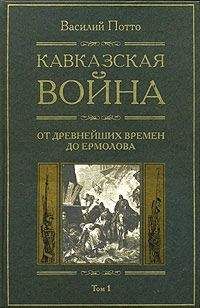Василий Потто - Кавказская война. В очерках, эпизодах, легендах и биографиях
Идея о формировании из горцев конного ополчения была далеко не нова. Еще во время войны за австрийское наследство императрица Елизавета Петровна желала иметь при нашей заграничной армии ополчение, набранное из кавказских горцев, но так как желающих между ними тогда не нашлось, то и сама мысль была оставлена. Потом Павел Сергеевич Потемкин, живя в Екатеринограде, долго мечтал собрать для императрицы лейб-кавказскую сотню, и если эта попытка не удалась ему, то только потому, что все делалось через десятые руки. Затем князь Цицианов также писал императору Александру о пользе содержать в Петербурге лейб-гвардии конный кавказский эскадрон и даже предлагал в командиры его полковника Измаил-бея, отлично знавшего русский язык, но дело не было приведено в исполнение сколько из-за финансовых соображений, столько же, если не более, от неумения внушить кабардинцам доверие к этому новому для них делу.
Последняя попытка в этом направлении сделана была генерал-лейтенантом Ртищевым, которому удалось наконец склонить Кабарду отправить в Петербург особую для этой цели депутацию. Обласканные государем, кабардинцы обещали выставить гвардейскую сотню, но исполнить этого не могли, так как по возвращении домой они сами были изгнаны с родины приговором аулиев – «божьих людей». В неудаче виноват тогда был более всего Ртищев, допустивший в состав депутации людей темного происхождения, незнатных и бедных фамилий, не имевших никакого влияния на своих соотечественников и которых обещания поэтому ровно ничего не значили.
Теперь в пятый раз поднят был вопрос о горском ополчении, и Соковнин взялся за него горячо, указывая между прочим на важное политическое значение, которое оно будет иметь. И он был, конечно, прав, говоря, что ополчение, которое пойдет в Россию, в то же самое время будет служить надежным аманатом, заложником, обуздывающим хищные инстинкты их же соотчичей.
Обладая блестящей наружностью и прекрасным образованием, Соковнин сумел расположить к себе кавказское начальство, и дело пошло вперед быстро и успешно. Вице-губернатор Врангель немедленно отпустил Соковнину значительную сумму денег, а генерал Портнягин сам ездил по линии и благодаря своему влиянию успел склонить многих знатнейших князей вступить в ополчение. Первыми явились на сборное место князья Бековичи-Черкасские, Росламбек и Араслан-Гирей – потомок Чингисхана, последняя ветвь древнего крымского ханского рода. По примеру их стали съезжаться подвластные им уздени, дворяне и уорки. А между тем султан Менгли-Гирей и князь Айтек Мисоустов вербовали ополченцев в аулах закубанских черкесов. Успех дела превзошел самые смелые ожидания, и вместо гвардейской сотни, о которой притом прежде только мечтали, теперь явилась возможность двинуть в действующую армию несколько тысяч отборной конницы.
От кабардинского ополчения ожидали весьма многого. Всем были известны превосходные боевые качества этой природной и, без сомнения, лучшей конницы в мире. Можно было наперед предвидеть, каких чудес могли бы натворить летучие отряды этих центавров, неуловимых, как воздух, если только их бросить на фланги и в тыл неприятельской армии.
Собравшиеся кабардинцы уже совсем были готовы к выступлению в поход. Красивые, стройные, одетые в железные кольчуги, блистая дорогим вооружением, они представляли собой красивое зрелище, и, глядя на них, можно было без колебаний сказать, что никакая кавалерия в свете не устоит против их сокрушительного удара в шашки. К сожалению, все это громкое дело рассеялось, как дым, и весь сбор этих правильно организованных тысяч, этих рвавшихся в бой лучших азиатских наездников оказался простой фантазией чрезмерно пылкого молодого воображения.
В то время как Портнягин и Соковнин ездили по крепостям на Кавказской линии, один из советников казенной палаты, некто Хандаков, стал сомневаться, чтобы такое важное дело, как формирование черкесского войска, могло быть поручено столь юному офицеру, и в этом смысле послал донесение министру финансов. Соковнин, узнав об этом, просил, со своей стороны, чтобы Портнягин отправил курьера с чрезвычайным донесением к министру полиции, генерал-адъютанту Балашову, находившемуся тогда при государе в действующей армии. Портнягин назначил расторопного портупей-прапорщика Зверева, но, как ни торопился этот последний, курьер Хандакова все-таки прибыл в Петербург гораздо скорее.
Ответ министра финансов произвел невообразимую суматоху в Георгиевске. Из Петербурга уведомляли, что Соковнин – самозванец, что он ни от кого никаких поручений не имел и что его следует немедленно арестовать и отправить в столицу под караулом. Всех ставило в тупик то обстоятельство, что на запросы, которые посылались о Соковнине прежде различным министерствам, получались всегда вполне удовлетворительные ответы.
Общее недоумение разрешил сам Соковнин при аресте его на вечере у командира Казанского пехотного полка полковника Дебу[79]. Взяв в руки перо, он начал подписываться почерком государя и министров, и так искусно, что все были поражены неподражаемым сходством.
Соковнин объяснил, что его настоящая фамилия – Медокс, что он англичанин, родившийся в Москве, где отец его был учредителем и владельцем московских театров, что сам он корнет, числившийся по кавалерии и в последнее время назначенный состоять при донском атамане Платове.
Медокс-Соковнин тут же сознался, что знал о всех бумагах, писанных по его делу, и что все они исчезали на одной из промежуточных станций, где он имел сообщника. Ответы, им же самим сочиненные, сдавались на ту же станцию и получались в Георгиевске. Как-то по ошибке он не перехватил донос Хандакова, сделавшийся роковым не только для него, но и для всего взлелеянного и так успешно начатого им предприятия.
Все действия Медокса обставлены были так искусно и ловко, что всякая мысль о подлоге показалась бы нелепостью, а симпатичная наружность молодого гвардейца, флигель-адъютантский мундир и отличное образование[80] дополнили остальное и невольно подчинили всех его обаянию.
Медокс хладнокровно объявил, что знает судьбу, ожидавшую его, но не теряет, однако, надежды на возможность оправдаться, так как намерения его были самые честные. Денежная отчетность действительно велась им с замечательной аккуратностью и добросовестностью. Медокс раздавал деньги черкесам не иначе как в присутствии комендантов, за их свидетельством, и никто не мог упрекнуть его, чтобы хоть одна казенная копейка была истрачена им на личную потребность. Напротив, следствием выяснено, что он убил на это дело даже свои последние доставшиеся ему от отца три тысячи рублей.