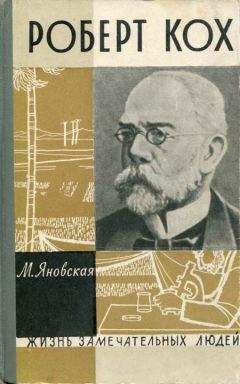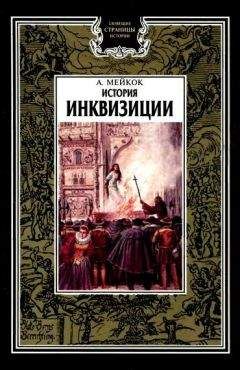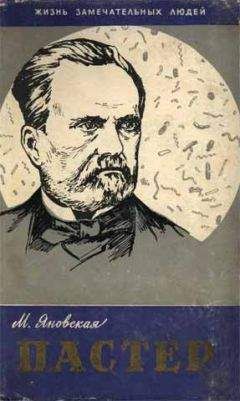Миньона Яновская - Вильям Гарвей
Он проклинал и эту грязь, и эту «проклятую реку», и ночных лодочников, вслух изливая свое раздражение. Но, добравшись в конце концов до жалкой хибарки, где его встречали молчаливые, полные надежды взгляды, он становился подтянутым, веселым, почти нежным. И с завидным спокойствием и сосредоточенностью делал свое нелегкое дело при свете свечного огарка в зловонной атмосфере нищенского жилья.
Совсем по-другому выглядела Темза днем, когда Гарвей спускался по ней в лодке один или с кем-нибудь из своих тогда еще немногочисленных друзей.
Он уезжал подальше от мест, кишевших кораблями, от криков капитанов и матросов, от скрипа снастей. На пристанях гудело от разноголосого шума и возгласов сотен людей, ждущих товаров или провожающих в дальнее плавание родственников и знакомых.
Где-нибудь в тихом местечке, далеко от этого шума и гама, Гарвей опускал в мутную воду сачок или банку и выуживал оттуда какого-нибудь маленького рачка с прозрачным, как стекло, телом, креветку или головастика. С восторгом показывал он свою добычу спутникам или сосредоточенно разглядывал сам. Крохотное ракообразное, по своей прозрачности не уступающее медузе, извивалось в банке, тщетно стараясь выбраться из нее. А над банкой склонялись две или три головы: Гарвей и его товарищи, затаив дыхание, разглядывали движения сердца речного обитателя.
Ни на один день не оставлял Гарвей научных наблюдений. Ни тогда, когда после тяжелых ночных путешествий в далекие нищие кварталы тело его настоятельно требовало отдыха, ни позже, когда его имя, как врача, стало уже известно лондонскому населению. Вооружившись лупой, он часами изучал сокращение сердца лягушки, улитки, змеи, мухи… Да, и мухи: у этих крылатых он тоже обнаружил в нижней части тела — брюшке — ритмически бьющееся сердце.
В те годы он был далек от событий, потрясавших общество. Взбудораживший весь Лондон «пороховой заговор» — неудавшееся покушение на короля Якова I 15 января 1605 года, в день открытия сессии парламента, — оставил Гарвея безучастным.
Большое горе потрясло его в том году: умерла его мать, Джоанна Гальке, прожившая всего пятьдесят лет. Эпитафия, начертанная на ее могиле, свидетельствует перед потомками и историками, что была она «женщина богобоязненная, скромная и любящая супруга, усердная рачительная хозяйка, нежная заботливая мать, любезная супругу, почитаемая детьми, любимая соседями — горькая утрата для близких».
Это был подробнейший список добродетелей хорошей и скромной английской женщины.
Гарвей искренне горевал по поводу тяжелой утраты. Но жизнь брала свое. Пациенты настоятельно требовали помощи, опыты отнимали массу энергии и времени, не давая сосредоточиться на горестных мыслях.
Скоро дела его пошли в гору.
В среду лондонской знати просочился слух о некоем молодом враче, применяющем какие-то собственные способы распознавания болезней. Рассказывали о нем как о чудаке, говорили, что трудно понять, чего он, собственно, добивается своими предписаниями. Мод? ные врачи, напуганные интересом их богатых пациентов к этим слухам, всячески осмеивали Гарвея, именуя его «выскочкой», заявляя, что все его рецепты не стоят и трех пенсов.
Но дело было уже сделано: во дворцах и богатых домах заинтересовались новым доктором. Теперь он уже не всегда месил ногами грязь набережной Темзы, торопясь на вызов: места, которые он начал посещать, находились в самой чистой части города. Иногда за доктором присылали карету; на запятках, словно статуи, стояли два грума, а на дверце красовался герб какого-нибудь древнейшего английского графа или герцога.
Два-три точно поставленных диагноза, два-три случая излечения, и уже по всем гостиным заговорили о Гарвее, этом странном докторе, который лечит «не как все». Его все чаще стали приглашать в богатые дома, и чем быстрее увеличивалось количество его пациентов, тем больше появлялось завистников. Теперь уже не было недостатка во врагах, они множились, как грибы, прямо пропорционально врачебным удачам Гарвея.
Все это было вполне закономерно. В гарвеевских методах лечения и распознавания болезней не было ничего таинственного, мистического; он охотно объяснял всем интересующимся, что в основе заболевания лежат изменения, происходящие в организме, в его тканях. И что между многообразными функциями каждого отдельного органа и всем организмом существует тесная и закономерная связь. Значит, если нарушена нормальная деятельность одного органа, нарушается в той или иной мере и деятельность всего организма. В этом и заключается болезнь. Чтобы лечить больного, нужно прежде всего установить причину заболевания. И Гарвей, устанавливая эти причины, исходил из собственных наблюдений, накопленных им в его опытах над животными и вскрытиях трупов людей. Многочисленные исследования такого рода дали ему в руки обширный материал: он знал, какие изменения претерпевают внутренние органы, пораженные различными недугами. На основании множества подсмотренных симптомов Гарвей мог делать вывод о состоянии этих внутренних органов и в зависимости от этого правильно определять болезнь и проводить успешное лечение.
Вот он подходит к постели больного, осторожно сжимает пальцами его руку у запястья. Неслышно шевеля губами, считает пульс. Пульс частый, ритм его то и дело нарушается. Для Гарвея ясно — значит, нарушен ритм биения сердца. Для него давно уже ясна связь пульса с сокращениями сердца, он уже установил — пока только для себя — природу этого важного фактора, по которому можно сразу же ознакомиться с состоянием сердечно-сосудистой системы человека. И он был, пожалуй, единственным врачом, прибегавшим в то время к подобному способу.
Вот он склонился к груди больного, к той ее стороне, где между пятым и шестым ребрами бьется сердце. Он вслушивается в удары — одни более громкие, другие послабее — и мысленно представляет себе: сердце сжалось, сократилось, приняло форму конуса, верхушка его приблизилась к стенке грудной клетки, и этот удар слышен четко и гулко. Да, но удары не все одинаковые, вот слышится глухой шум, напоминающий шипенье… значит, с сердцем что-то неладное, значит, болезнь гнездится в нем самом.
Значит, лечить надо сердце — делает он вывод.
Такого рода подход к больному становился слишком понятным, доступным простым смертным и грозил рассеять весь тот туман, который напустили на тогдашнюю медицину многочисленные невежды и шарлатаны.
Научной медицины, основанной на опыте и наблюдениях, в то время и в помине не было. Медики пробавлялись рассуждениями, исходя из принципов, созданных воображением и не имеющих ничего общего с действительностью. Их фантазия представила человеческий организм как «микрокосм», одушевленный «археем» и населенный таинственной «жизненной силой». Этот выдуманный «микрокосм» служил объектом нелепейших умствований; плоды этих умствований и применялись на живых людях.