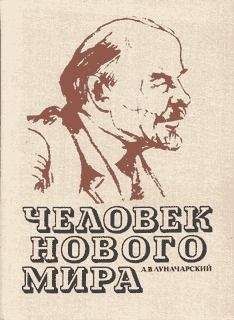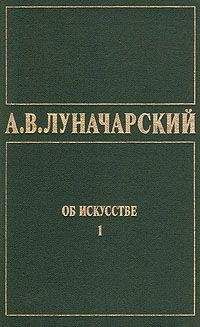Анатолий Луначарский - Воспоминания и впечатления
Я здесь не хочу заниматься характеристикой Плеханова — это другая задача, — но отмечу мимоходом, что в самой внешности Плеханова и в его обращении было что-то такое, что невольно меня, тогда еще молодого, заставило подумать: должно быть, и Герцен был такой. Плеханов сел за стол Аксельрода, где и я сидел, и обменялся с ним и со мной несколькими любезными фразами.
Что касается самого выступления Плеханова, то оно меня несколько разочаровало. Может быть, после острой, как бритва, и блестящей, как серебро, речи Розы. Когда прекратились громкие аплодисменты в ответ на ее речь, старик Грейлих3, уже тогда седой, уже тогда похожий на Авраама (а между тем я и 25 лет после видел его таким же почти энергичным, хотя, увы, вместе с Плехановым уже не принадлежавшим к нашей передовой колонне социализма), — так вот, Грейлих вошел на кафедру и сказал каким-то особенно торжественным тоном: «Сейчас будет говорить товарищ Плеханов. Говорить он будет по-французски. Речь его будет переведена, но вы, друзья мои, все-таки старайтесь сохранять безусловную тишину и следите со вниманием за его речью».
И это призывавшее к благоговейному молчанию выступление председателя, и огромные овации, которыми встретили Георгия Валентиновича, — все это взволновало меня до слез, и я, юноша — так что простительно было — был необычайно горд «великим соотечественником», но, повторяю, сама речь его меня несколько разочаровала.
Плеханов хотел по политическим соображениям занять промежуточную позицию. Ему, очевидно, неловко было, как русскому, высказаться против польского национального душка, хотя вместе с тем он был целиком теоретически на стороне Люксембург. Во всяком случае он с большой честью и с большим изяществом вышел из своей трудной задачи, сыгравши роль многоопытного примирителя.
Георгии Валентинович остался тогда на несколько дней в Цюрихе, и я, конечно, рискуя даже быть неделикатным, просиживал целые дни у Аксельрода, ловя всякую возможность поговорить с ним.
Возможностей представлялось много. Плеханов разговаривать любил. Я был мальчишка начитанный, неглупый и весьма задорный. Несмотря на свое благоговение перед Плехановым, я петушился и, так сказать, лез в драку, особенно по разным философским вопросам. Плеханову это нравилось, иногда он шутил со мной, как большая собака со щенком, каким-нибудь неожиданным ударом лапы валил меня на спину, иногда сердился, а иногда весьма серьезно разъяснял.
Плеханов был совершенно несравнимым собеседником по блеску остроумия, по богатству знаний, по легкости, с которой он умел мобилизовать для любой беседы огромное количество духовных сил. Немцы говорят: «geistenreich!» — богатый духом. Вот именно таким и был Плеханов.
Должен, впрочем, сказать, что мою веру в громадное значение левого реализма, т. е. эмпириокритики Авенариуса4, Плеханов не поколебал, ибо и трудно было ему ее критиковать, так как он не дал себе труда познакомиться с философией Авенариуса. Шутливо иногда он говорил мне: «Давайте лучше поговорим о Канте, если вы уже хотите непременно барахтаться в теории познания, — этот по крайней мере был мужчина». Может быть, Плеханов и мог бы нанести какой-нибудь удар эмпириокритицизму, но, нанося его, он часто попадал вправо и влево от него, как он сам любил говорить, «мимо Сидора в стену». Но неизмеримо огромное влияние на меня имели эти беседы, поскольку они в конце концов свернули на великих идеалистов Фихте, Шеллинга и Гегеля.
Я, конечно, уже тогда превосходно знал, какое огромное значение имеет Гегель в истории социализма и насколько невозможно правильное историческое понимание марксистской философии истории без хорошего знакомства с Гегелем.
Позднее Плеханов укорял меня в одном из наших публичных диспутов за то, что я не проштудировал как следует Гегеля. Отчасти благодаря Плеханову я все-таки это довольно тщательно проделал, но и без Плеханова я, конечно, почел бы это своим долгом, как человек, готовившийся стать теоретиком социализма. Другое дело Фихте и Шеллинг. Мне казалось за глаза достаточным знакомство с ними по истории философии, я считал, что это уже совсем превзойденная точка зрения, и мало интересовался их учением. Плеханов же с неожиданным для меня восторгом отозвался о них, ни на одну минуту не впадая, конечно, в какую-либо ересь, вроде — назад к Фихте! — что потом возгласил Струве, — он, однако, произнес передо мною такой пламенный, глубокий и великолепный дифирамб Фихте и Шеллингу, нарисовал такие монументальные портреты их, как носителей определенных мировоззрений и мирочувствований, что я немедленно же побежал оттуда в Цюрихскую национальную библиотеку и погрузился в чтение великих идеалистов, наложивших на все мое миросозерцание, могу сказать больше, на всю мою личность, огромную, неизгладимую печать.
Бесконечно жаль, что Плеханов только бегло высказался по поводу великих идеалистов. Знал он их чрезвычайно основательно, даже до удивительности точно, и мог бы написать книгу о них, конечно, не менее блестящую, чем его книга «О материалистических предшественниках марксизма»5. Правда, я думаю, что вообще все же несколько базаровскому уму Плеханова его вечные друзья Гольбах и Гельвеций из предшественников марксизма были роднее, чем великие идеалисты. Но глубоко погрешил бы против Плеханова тот, кто подумал бы, что другой мощный корень марксизма им игнорировался.
Георгий Валентинович предложил мне переехать к нему, чтобы продолжить нашу беседу, но уже значительно позднее, может быть даже приблизительно через год, точно не помню, я смог приехать в Женеву из Парижа. Это тоже были счастливые дни. Георгий Валентинович писал в то же время свое предисловие к «Манифесту Коммунистической партии» и очень интересовался искусством. Я им интересовался всегда со страстью. И поэтому в этих наших беседах вопрос зависимости надстройки от экономической базы, в особенности в терминах истории искусства, был главным предметом. Я встречался с ним тогда у него в кабинете на rue de Candole, а также в пивной Ландольта, где мы, меняя немало кружек пива, проводили иногда по нескольку часов.
Помню, какое огромное впечатление произвело на меня одно обстоятельство. Плеханов ходил по своему кабинету и что-то мне втолковывал. Вдруг он подошел к шкафу, вынул большой альбом, положил его на стол передо мною и раскрыл. Это были чудесные гравюры картин Бушэ6, крайне фривольные и, по моим тогдашним суждениям, почти порнографические. Я немедленно высказался в том смысле, что вот это-де типичный показатель распада правящего класса перед революцией.