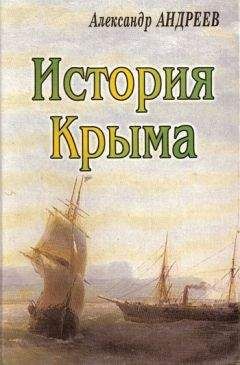Людмила Кунецкая - Коммунисты
Отец спрятал листовку в подпол, туда же сложил литературу и оружие. И уже не присел на лавку, а прошаркал валенцами по комнате из угла в угол.
— Паспорт есть? — Он снял очки и протер платком слезящиеся глаза.
— Сделали. Мещанин города Коврова Семен Антонович Безрученков. — Фрунзе похлопал рукой по нагрудному карману.
— Ну, это для полиции. А пока ты смени одежду и оглядись: городок наш невелик, за день-то трижды успеешь вдоль и поперек. По-темному приходи к Евлампию Дунаеву, я ему дам знать о тебе. Пистолет возьмешь, когда снадобится… Ну а в смысле денег есть чего? Или по пословице: хвать в карман, ан дыра в горсти?
— Марат положил мне двенадцать рублей в месяц. И эти деньги выдал.
— Эх, с души скинуло! Я ведь каждую копейку берегу, касса моя оскудела. Да и для стачки надо приберечь…
Одели Трифоныча по обычной ивановской моде: черная пара и в тон ей картуз с лакированным козырьком. И синяя косоворотка с белыми пуговицами. А сапоги сошли свои — за десять недель хорошей носки они уже не казались новыми.
Трифоныч вышел на улицу и поначалу ощутил неудобство: вид был непривычный, и ему подумалось, что весь этот маскарад невольно будет бросаться в глаза. Ведь последние десять лет он почти не расставался с формой, а она обязывала к внутренней дисциплине и к порядку. И только летом, в самом раннем детстве, бегал он босиком по пишпекской жаре и начисто забывал о тужурке и штанах гимназиста.
Но это ощущение неудобства скоро прошло. Прохожие не обращали внимания на молодого «мастерового», который был им под стать. Позже он узнал, что такие вот парни, как он, нередко болтались по улицам, потеряв работу за самую малую провинность. А им на смену воблой шли из деревень покладистые, покорные мужики, которых гнали к машинам нужда, беда, горе.
После нарядного Питера, после огромной и старинной Москвы «русский Манчестер», как его хвастливо называли ивановские фабриканты, оказался большой деревней, в которую воткнули десятка два особняков и одну поместительную площадь — с городской управой, полицейским управлением и пожарной каланчой.
Главная улица вела от вокзала. Но и она была из мрачных зданий, едва ли не тюремного вида. Весь центр занимали фабрики с зарешеченными окнами, и из них несся такой грохот, что деревянные тротуары дрожали, как от проходящего рядом поезда.
Красный кирпич давно побурел от непогоды, копоти и пара. Дым валил из частокола высоких труб, а по желобам бежала ручьями из каждого здания грязная горячая вода — синяя, мыльная, бордовая — в речку Уводь.
На фабричные здания глядели дома хозяев. У одних они были без претензий и, видать, стояли с тех давних пор, когда вместо города обозначались на географической карте два поселка ткачей-кустарей — Иваново и Вознесенское: внизу — каменная лавчонка, наверху — комнаты для семейства. У других новые особняки, с лепными украшениями, зеркальными и разноцветными стеклами, в два огромных этажа — комнат на двадцать-тридцать, часто с верандами, цветником и солидным швейцаром в галунах. И словно напоказ выставлена вся эта кричащая роскошь рядом с грязной улицей, на которой в пыли валяются нитки, обрывки лоскута и ленты бязи. На каждом перекрестке либо питейное заведение — кабачок, трактир, пивная, монополька, либо чайная.
Вокруг фабричного центра, где предприятия, особняки, церкви, кабаки и заезжие дома составляли невиданный и очень странный архитектурный ансамбль, лепились деревушки, одна унылее другой по названию: Ямы, Рылиха, Завертяиха, Голодаиха, Посикуша и Продирки.
На фоне леса, чуть тронутого нежной зеленью, текла в низких берегах речка Талка, но и она была отравлена фабричными отходами из Уводи. Однако вода в ней казалась чище. И, как писал в рассказе ивановский ткач Павел Постышев, журчала весело, словно выражала свою радость, что убегала от грязной, вонючей Уводи.
В центре города попадались еще деревья, хоть и с загрязненной листвой. А на окраинах лишь кое-где были устроены палисадники с кустами сирени или цветущей черемухой. А где не было загородок, бродячие козы добирали последние листья на кустиках.
В серый фон деревенских построек — приземистых, со слепыми окошками и соломенными крышами — кой-где были вкраплены домики понаряднее: еловые, сосновые, рубленные в лапу, с железным петушком на коньке, синими или белыми наличниками и даже с мальвами перед тремя оконцами по фасаду.
В таких домиках жили мастера, подмастерья и те из рабочих, которые всей семьей из поколения в поколение тянули лямку для Гарелина, Бакулина, Дербенева или Зубкова и пытались отгородиться от голытьбы и подчинить свою жизнь одной цели выйти в люди.
Ведь в городке не было пришлых фабрикантов, с фамилиями, резавшими ухо русскому мужику, — из немцев, французов и англичан. Все были свои, тутошние, из окрестных уездов, как, к примеру, Мефодий Гарелин — один из самых богатых. Старики знали его с детских лет, кличка ему была Мефодка: мужик полуграмотный, с противной ехидной рожей и гундосый. И был он как бельмо на глазу: гляди, куда вылез, рукой не достанешь! А мы чем хуже? Копи грош, к нему — целковый, по рублику, и — сотня! А там, бог даст, и свое заведение пустим в ход!
И, рассуждая так, иной раз начисто забывали старую поговорку: «От трудов праведных не наживешь палат каменных!» И далеко не каждый скопидом мог так хитрить, изворачиваться и грабить, как проклятый Мефодка!..
Бездомные ткачи ютились в фабричных «спальнях».
Так назывались рабочие казармы, обычно расположенные в одном из углов фабричного двора. Были «спальни» для холостых и для семейных. И трудно сказать, где хуже. У семейных и совсем без просвета. Вся жизнь и постылая нудьга соседа рядом, на глазах, за грязной пестрой ситцевой занавеской. Одно утешение, что у них есть отдельный бокс, как вагонное купе. И хоть спят семейные на двух этажах, иной раз навалом, если детей куча, зато своя лампа, свой рундучок, свои три стены из филенки и мутное от копоти окошко.
А у холостых — сарай на сотню голов; все нары, что тянутся по стенам и посредине, видны от края до края, как в огромной тюремной камере. И есть у тебя только одно место, где можно лежать после смены, в тесноте, обычно на боку, чтобы ненароком не приспать тщедушного соседа. Койкой это место не назовешь: вонючий соломенный матрас, подушка, набитая сеном, и всякое тряпье, хуже, чем у цыгана в полотняной хибаре. И отоспаться можно только в праздники, когда ткачи и прядильщики разбегаются по родне в ближайшие деревни.
Непривычный человек просто чумел в «спальне» от жуткого ералаша: в одном углу балалайка, в другом — тульская или саратовская гармонь; где-то горланят песню во весь голос; кто-то плетет байки или сказки.