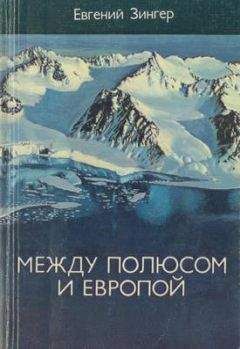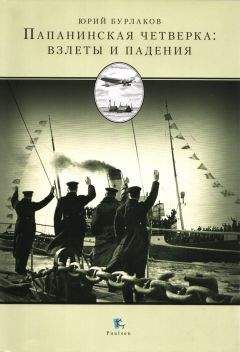Петр Гнедич - Книга жизни. Воспоминания. 1855-1918 гг.
— Беречь грошики надо: уйдут — не придут.
Он ездил по городу и старался завязать некоторые отношения. Съездил он, между прочим, к М.О. Микешину. Тот ему дал необычайно туманный рисунок: какого-то коршуна, распятого на чем-то вроде креста. Есипов видел в этой композиции нечто чрезвычайно нецензурное, хотя ни он, ни кто бы то ни было из его знакомых не могли понять: да в чем же там дело и в чем заключается сатира? Было даже по поводу этого рисунка целое собрание, на котором большинство голосов предлагало микешинской композиции не печатать. Но издатель согласился с меньшинством.
— Пожалуй, вся соль будет заключаться в том, — решил он, — что все будут догадываться, но никто не поймет в чем дело.
— Да Микешин-то вам объяснял свою мысль? — допытывались у него.
— Нет. Он говорил, что этого нельзя сказать.
В конце ноября или в декабре появились первые объявления.
Подписка — нельзя сказать, чтобы шла бойко: подписчика три-четыре в день. Объявления стоили гораздо дороже того, сколько поступало прихода. Есипов принимал все время подписку сам, сам ездил на почту за пакетами, сам их вскрывал и разносил по книгам. Нумера на квитанциях он выставлял довольно смелые, так что по ним цифра подписчиков перевалила уже за две тысячи, хотя, в сущности, он до Нового года не мог набрать и двухсот.
Публика встретила "Шута" с недоумением. Громадные простыни, несмотря на оригинальность, никому не понравились — и журнал обругали. Но больше всех ругался сам Есипов. Он бил себя, как Лир, кулаком по лбу и восклицал:
— Надо быть идиотом, чтоб решиться издавать сатирический журнал в России! Я банкрот со второго нумера!
Но, в сущности, первые номера "Шута" были совсем не так плохи, как это многим казалось. Они были самобытны и оригинальны, а уж одно это достоинство стоит многих.
Нашлись такие подписчики, что прислали благодарность издателю — и в шутку или серьезно, трудно сказать, — но заявляли, что журнал "превзошел все их ожидания".
К Пасхе образовалось подписчиков человек четыреста, да поднялась несколько розничная продажа. Есипов тем не менее все дело продолжал вести сам. Он даже сам разбирал журнал по трактам, для отправки в почтамт. Для этого из конторы выносились столы, покрытые зеленым сукном, и вся комната покрывалась кучками журналов. Иногда за этим полезным гимнастическим занятием проходило часов пять, и пришедшие в гости знакомые помогали хозяину в сортировке.
Раскраска, или как Есипов громко называл "иллюминование", значительно подняла розничную продажу. Но не всем эта раскраска пришлась по душе. В редакцию явился один суровый подписчик и потребовал обратно деньги. Тщетно издатель уверял его, что экземпляры в красках стоят гораздо дороже. Упрямый консерватор стоял на своем:
— Я подписался на черный журнал и не желаю получать раскрашенного.
— Да ведь раскрашенный лучше!
— Желаю черный. Издатель догадался.
— Если вы желаете, я вам буду специально высылать черный экземпляр. Единственный нераскрашенный экземпляр вы будете получать.
И тот получал до конца года экземпляр без красок. Это было тем легче сделать, что он был "бездоставочный" подписчик.
К лету редакция нового журнала перебралась на угол Невского и Николаевской. Это было очень тяжело для Есипова, но он говорил:
— Для бу-бу-будущего года это нужно.
И перебрался. Квартирка была в 4-м этаже и неважная. Но главное — в центре и недалеко от литографии, где печатался журнал.
Летом Есипов жался, насколько мог. Он обрезал себя со всех сторон, тратил гроши на обед, не позволял себе ничего, заручился, где мог, кредитом и все рисовал и рисовал дни и ночи.
Если в истории нашей журналистики будущий историк когда-нибудь коснется истории издания Есипова, он укажет на один очень редкий, исключительный и знаменательный факт: живший впроголодь издатель, по-видимому лишавшийся всякой надежды на будущее, должный всюду — и в типографию, и в лавочку, и чуть ли не прислуге — до копейки рассчитывался со своими сотрудниками, людьми тоже полуголодными.
Я видел сам, я могу это засвидетельствовать, как он в расчетный день, в субботу, когда выходил его нумер, выдвигал из-под постели какой-то деревянный сундучок, открывал его и вынимал оттуда горстями двугривенные, пятиалтынные и гривенники. У него не было других денег. Это было то, что газетчики принесли ему в течение недели за розничную продажу. Он копил эти двугривенники и пятиалтынные для сотрудников, а сам питался колбасой, сыром и чаем. При нем состоял какой-то белесоватый прыщеватый секретарь, — кажется, тоже по неделям не видевший горячей пищи. Но молодость все выносила: издатель упорно перекалькировывал французские карикатуры, бегал к цензору, просил в типографии о кредите, умолял сотрудников быть поостроумнее, ел скверную колбасу и пил жидкий чай, иногда задумываясь, опускать ли в него третий кусок сахара и не повлияет ли это на его финансовую систему.
Из-за чего так бился Есипов? Вопрос совершенно неразрешимый. Он мог как пейзажист заработать довольно много, особенно при той сравнительной обеспеченности, что давало ему получение небольшого наследства. Но он бросил искусство, в котором, быть может, был способен сделать гораздо больше многих своих сотоварищей, составивших себе на пейзаже имя. Он погиб для искусства навсегда. Когда несколько лет спустя он вернулся к живописи, в нем не оказалось прежней впечатлительности, — и работы его вышли манерны, скучны и слащавы.
К концу первого года издания "Шута" Есипова ожидал успех.
Подписка действительно "превзошла ожидания". Он снова переехал — уже на самый Невский и завел огромную вывеску.
Но с этих пор начинается другой период его деятельности — гораздо менее симпатичный: журнал дает доход. Появляется новая атласная обстановка, появляется карета на резинах. Художник погиб, издатель растет. Но успех пьянит его. Полная непрактичность доводит его до краха. Широко задуманное дело с собственной типографией — рушится. Журнал переходит в другие руки. Развивается хроническая болезнь на нервной почве. В результате — больница, страдание, нужда, смерть…
Не могу не упомянуть, что Есипов чуть не на коленях умолял меня помочь в составлении первых номеров. Его отчаяние действительно не знало пределов. Он увозил меня на целые ночи в редакцию и в отчаянии говорил:
— Вы хотите моей гибели? Я застрелюсь!
Я писал (конечно под псевдонимом) стихи, заметки, рисовал на камне. Помню, в течение двух дней пришлось нарисовать копию с картины Макарта "Виндзорские проказницы", выданной в первом году "Шута" премией годовым подписчикам. Не знаю, найдется ли где-нибудь хотя один оттиск этой литографии. Под стихами и статьями я подписывал: Калхас, Жёлудь, Старый Колпак, Viola tricolor — и еще какими-то псевдонимами. Часто от Есипова я уезжал после зимней ночи, когда уже светало. Горячка эта относилась только к началу первого года издания. Потом, по привычке и по просьбам — я давал несколько лет подряд материал в "Шут". И наконец прекратил свое сотрудничество окончательно. Лейкин очень подзывал меня в "Осколки" и все ссылался на Чехова, но я ему говорил, что Чехов на четыре года меня моложе, а через четыре года и он не будет у него участвовать. Так и случилось: мое пророчество было вещим. Чехов в своих письмах отзывается о Лейкине весьма неодобрительно: и его, и издателя "Петербургской газеты" Худекова он считает "эксплоататорами", а не лицами, лелеющими молодое дарование.