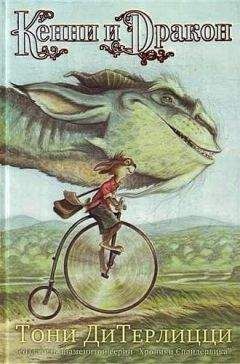Валерий Михайлов - Лермонтов: Один меж небом и землёй
«…Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твоё ко мне внимание, которое я мог замечать, хотя и лишён был утешения жить вместе с тобою.
Тебе известны причины моей с тобой разлуки, и я уверен, что ты за сие укорять меня не станешь. Я хотел сохранить тебе состояние, хотя с самою чувствительнейшею для себя потерею, и Бог вознаградил меня, ибо вижу, что я в сердце и уважении твоём ко мне ничего не потерял.
Прошу тебя уверить свою бабушку, что я вполне отдавал ей справедливость во всех благоразумных поступках её в отношении твоего воспитания и образования и, к горести моей, должен был молчать, когда видел противное, дабы избежать неминуемого неудовольствия.
Скажи ей, что несправедливости её ко мне я всегда чувствовал очень сильно и сожалел о её заблуждении, ибо, явно, она полагала видеть во мне своего врага, тогда как я был готов любить её всем сердцем, как мать обожаемой мною женщины!.. Но Бог простит её сие заблуждение, как я ей его прощаю».
… И ещё раньше этого отцовского завещания, в 1830 году, в драме «Menschen und Leidenschaften» («Люди и страсти») в монологе юного героя Юрия Волина, весьма похожего на Лермонтова, звучат слова:
«У моей бабки, моей воспитательницы, жестокая распря с отцом моим, и это всё на меня упадает».
Всё детство и юность — упадало…
ВоспитателиЗаведённая давнишним патриархальным порядком помещичья жизнь шла по накатанной: учение, игры, домашние спектакли, танцы — когда в гости наезжали соседи со своими детишками, церковные праздники… Бабушка растила внука в почитании православной веры, и, по обычаю барской добродушной старины, ещё в семилетием возрасте Миша стал восприемником, то бишь крёстным отцом, новорождённых у дворовых людей младенцев: Петра Рыбакова и Николая Вентюкова, Фёдора Иванова — сына дьячка Ивана, потом двух Андреев — сыновей Ивана Летаренкова и Ефима Шерабаева. Дальше — больше: почти каждый год в Тарханах выраставший без родного отца мальчик становился крёстным отцом крестьянских детей…
Среди многочисленного «женского элемента» Тархан, что ласкал, забавлял и пестовал барчонка Мишу, мужчин водилось мало, но к ним отрок особенно тянулся. Тут были домашний доктор еврей Леви (он недолго служил у Арсеньевой) да гувернёр француз Жан Капэ, которого величали, конечно, Иваном. Эльзасец Капэ раненым попал в плен к русским и, хотя его выходили, остался хворым. К России он привязался и считал её второй родиной, а может, просто свыкся, нашедши здесь кусок хлеба, или не к кому особенно было возвращаться…
«Лермонтов очень любил Капэ, о коем сохранилась добрая память и между старожилами села Тарханы; любил он его больше всех других своих воспитателей. И если бывший офицер наполеоновской гвардии не успел вселить в питомце своём особенной любви к французской литературе, то он научил его тепло относиться к гению Наполеона, которого Лермонтов идеализировал и не раз воспевал. Может быть также, что военные рассказы Капэ немало способствовали развитию в мальчике любви к боевой жизни и военным подвигам. Эта любовь к бранным похождениям вязалась в воображении мальчика с Кавказом…» — пишет Павел Висковатый.
«Гений Наполеона» русским ничего не принёс, кроме крови, насилия и разрухи, но нет худа без добра: в народе, вставшем против захватчика, пробудились исконная отвага и сплочённость, и любовь к своей земле вспыхнула у всех сословий как общее, неразделимое чувство; к поверженному же врагу русские всегда относились великодушно.
«То было на Руси время удивительное — эти годы после отечественной войны, — размышляет Висковатый. — Давно Россия на земле своей не видала врагов. Долгий и крепкий сон, которым спала особенно провинция, был нарушен. Очнувшийся богатырь разом почувствовал свою мощь, познал любовь свою к родине так, как сказалась она в нём разве два века назад, в 1612 году. Стихийные чувства пробудились, смолкла взаимная вражда мелких интересов, перестали существовать сословные предрассудки, забылись привилегии классов, отупились чувства собственности, и каждый, в коем не иссохла душа, — а таких людей, слава Богу, было много, — каждый чувствовал, что всё его достояние, весь он принадлежит народу и земле родной. Этому народу, этой земле приносилось в дар достояние, как легко добытое, так и трудами накопленное. Оно приносилось в дар или прямо родине, или уничтожалось, чтобы не попалось в руки врага и через то не послужило бы во вред родной земле…»
И далее:
«…Удивительно, что пробудившееся у нас самоуважение, забытое было среди лжи и поклонения всему иноземному, никогда не доводило русских до ослепляющего самомнения. <…>
Пожёгший добро своё русский, голодный и бесприютный, дружески относится к пленному французу. Говорят, Наполеон под Аустерлицем с соболезнованием и симпатией глядел на храбро гибнувших русских.
Однако зачем же превозносить русских? Не было ли того же одушевления и в Германии? — скажут мне. — Да, и там было оно, и там были люди, которые жертвовали последними грошами на войну за освобождение. Да это было не то, — собственность свою вообще там не забывали. Где же уничтожали перед врагом своё добро? Где там горожане жгли города свои, крестьяне — избы и жатву, купцы — свои запасы? Где же горела Москва, Смоленск? Где купец Ферапонтов, увидав в своей лавке солдат, расхищавших добро его и насыпавших пшеничную муку в ранцы свои, кричал им: „Тащи всё, ребята. Не доставайся дьяволам… Решилась Россия, решилась! Сам запалю“. <…>
Трудно провести параллель между тогдашнею Россией и Германией. Там сожжение своей собственности русскими казалось признаком варварства „русские не доросли ещё до Eigenthumsgeful’a (чувства уважения к своей собственности)“, поясняют немцы. Может быть, это и недостаток культуры. Может быть, „культуртрегеры“ немцы и обучат нас иному, но только факт остаётся фактом, и идеи общего человеческого достоинства, идеи французской революции, разнесённые по лицу Европы наполеоновскими войнами, коснулись нас сильнее и отозвались в лучших умах наших, запечатлевших 25-летним страданием в Сибири свои декабрьские заблуждения».
Этим одушевлённым воздухом любви к Родине, мужества, бескорыстия и великодушия, что принесла народу Отечественная война 1812 года, дышал и юный Лермонтов. Мальчик выспрашивал о том времени не только у бывшего наполеоновского гвардейца, но и у тарханских крестьян — ветеранов войны, разгромивших супостата, а позже и у старожилов москвичей, которые хорошо запомнили, как горела подожжённая жителями Москва. Да и в среде дворянской молодёжи не переставали обсуждать недавнюю войну. Недаром, несколькими годами позже, в юношеской пьесе Лермонтова «Странный человек» появляется сцена, рисующая шумное студенческое застолье. Подогретые шампанским юноши (ремарка автора: «Ни одному нет больше двадцати лет») вольно болтают о том о сём, издеваются над «общипанными разбойниками Шиллера» в театре (понятно, цензура общипала!), читают стихи, выкрикивают весёлые тосты («Господа! мы пришли сюда и званы на похороны доброго смысла и стыда. За здоровье дураков и б…й!»), обсуждают своего товарища, этого странного Арбенина… — и вдруг вспыхивает такой диалог: