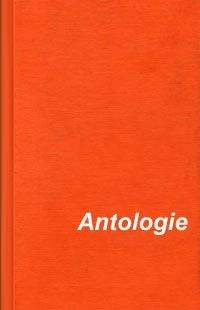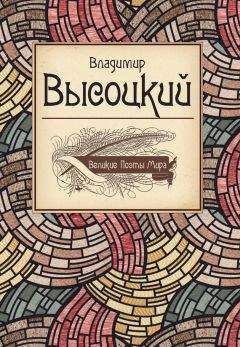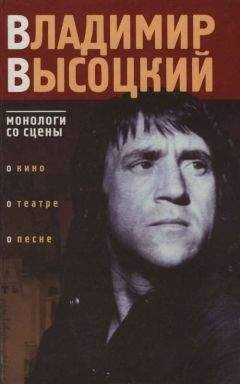Владимир Соловьев - Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых
Вслед за очередным контрастом — душевно-идеального с приметно-будничным (пальтишко, обветренные руки, старенькие туфельки) — Окуджава неожиданно переводит все стихотворение в высокий регистр, в идеальный план, но только затем, чтобы последней строчкой закрепить за повседневным течением жизни черты поэтической одухотворенности и сердечного напряжения:
И тени их качались на пороге.
Безмолвный разговор они вели,
красивые и мудрые, как боги,
и грешные, как жители Земли.
Окуджава сконструировал — применительно к его поэтике точнее будет сказать «возвел» — в своих стихах сказочный город. Печатая шаг, по этому фантастическому городу вышагивает главный его герой — трубач, барабанщик, флейтист, горнист. Пусть не гитарист, что было бы нестерпимым прямоговорением и тавтологией, но человек сходной профессии. А главное — схожей судьбы: осознавший в себе свое время и свое призвание. О ком и о чем бы Окуджава ни писал — о веселом барабанщике или о дежурном по апрелю, о московском муравье или о полночном троллейбусе, о петухе, на крик которого уже никто не выходит во двор, или о грядущем трубаче, — он всегда пишет об одном и том же персонаже. Который сказочен в той же мере, как время и место его стихов.
Кстати, с временем этот сказочный персонаж на короткой ноге. Он легко меняет исторические маски, чтобы свободно пересекать его: Франсуа Вийон и Тиль Уленшпигель, оба Александра Сергеича — Пушкин и Грибоедов, Пиросмани, Киплинг, Ярославна, император Павел — с ними поэт в тесных сношениях, будто он их современник или они — его. Само собой, это не исторические лица, а такие же жители его стихов, как Ленька Королев и Надежда Чернова, бумажный и оловянный солдатики, барабанщик и трубач, муравей и кузнечик. Стихи Окуджавы в еще большей степени, чем его исторические романы, к истории имеют косвенное отношение: история для него — прежде всего легенда.
В легенде быт превращается не в бытие, а в бутафорию, в театральный реквизит с мимолетной и памятной символикой. Капюшон Данте, чайльгарольдный облик хромого Байрона, разбойничье досье Франсуа Вийона вспоминаются прежде их стихов и часто взамен их. Если опять обратиться к грамматике, исторические персонажи поэзии Окуджавы окажутся скорее в роли дополнения, чем подлежащего: не герои его стихов, а спутники поэта в его путешествии сквозь время. Как Вергилий у Данте. Исторический реквизит стихов Окуджавы создан в наше время.
Средневековая Франция или Грузия прошлого — нет, теперь уже позапрошлого — века для Окуджавы историчны и легендарны в той же мере, что довоенные арбатские дворы. Время становится легендой на наших глазах. Как те же, к примеру, московские трамваи, загнанные на столичные окраины:
И, пряча что-то дилижансовое,
сворачивают у моста,
как с папиросы искры сбрасывая,
туда, где старая Москва,
откуда им уже не вылезти,
не выползти на божий свет,
где старые грохочут вывески,
как полоумные, им вслед.
(К сожалению, в академическом издании так и остался цензурный «белый свет» вместо «божьего», а я помню, Булат, жалуясь на цензуру, приводил пару примеров, включая этот.)
И даже для самой что ни на есть современности находит Окуджава привычные и в то же время неожиданные приметы и черточки, которые обретают в его стихах историческую символику. Он выравнивает в значении, выстраивает в один временнóй ряд настоящее, прошлое и будущее — мгновение, час, день, год, столетие, не видя различия меж ними, ибо время — это условный показатель вневременных, вечных переживаний человека: «И нет поединкам конца, а только — начала, начала…», «И в смене праздников и буден, в нестройном шествии веков смеются люди, плачут люди…», «Не тридцать лет, а триста лет иду, представьте вы, по этим древним площадям, по голубым торцам…».
Помимо песенно-романсово-романсерных корней, в поэзии Окуджавы легко различимы связи с живописью. Цветовые эпитеты у него — яркие, чистые, благородные, нарядно сказочные:
Два кузнечика зеленых в траве, насупившись, сидят.
Над ними синие туманы во все стороны летят.
Под ними красные цветочки и золотые лопухи…
Два кузнечика зеленых пишут белые стихи.
Поэт нечастых программных деклараций и теоретических постулатов, Окуджава в стихотворении «Как научиться рисовать» резюмирует поэтический опыт, им нажитый:
Перемешай эти краски, как страсти,
в сердце своем, а потом
перемешай эти краски и сердце
с небом, с землей, а потом…
Главное — это сгорать и, сгорая, не сокрушаться о том.
Может быть, кто и осудит сначала,
но не забудет потом!
У каждого человека свой любимый цвет, у поэта — тем более. К примеру, наиболее частый цветовой эпитет у Ахмадулиной — оранжевый, у Давида Самойлова, с его приглушенной палитрой — серый. Излюбленный колер в поэтике Окуджавы — голубой, самый тревожный, зыбкий, романтический, отвечающий душевной смуте его лирики. Но именно зыбкость и невнятность — при романтических либо ностальгических мотивах — для Окуджавы наиболее и важны; оттого, кстати, столько в его стихах контрастных сопоставлений:
Он по-дьявольски щедр и по-ангельски как-то рассеян…
* * *Петухи в Цинандали кричат до зари:
то ли празднуют, то ли грустят…
То ли утренние зори… То ль вечерняя заря…
Так и «голубой» эпитет применен Окуджавой вовсе не к тем понятиям, с которыми его связывает просторечие: скажем, «голубое небо». Колебатель смысла, Окуджава голубым называет неголубое, то есть открывает голубизну там, где ее до него даже не подозревали. Голуби до него были сизыми, а у него становятся голубыми — потому и голуби! «Петух голубой», «две вечерних звезды — голубых моих судьбы», «по голубым торцам», «за голубями голубыми», «голубые чаи», «голубые капельки пота» — семантика смещена, поколеблена, зато соответственно усилена скользящая неопределенность стиха.
(Опускаю «голубого человека» и «шарик вернулся, а он голубой» — Булат перестал их петь ввиду сексуальной переориентации невинных образов, по причине их двусмысленности в новом лексическом контексте, — как искажены современным сленгом фетовское «Я пришел к тебе с приветом…» или пастернаковское «…ты прекрасна без извилин» да и пушкинское «всё волновало нежный ум». Однако «Союз друзей» он петь продолжал даже после того, как песня стала гимном правых, несмотря на противоположное и ни на чем не основанное утверждение критика С. Рассадина. Зато его ностальгические «Комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной» и вовсе зазвучали после идеологического обвала начала 90-х анекдотично — пока, десятилетием позже, в них не послышались грозные и зловещие нотки.)