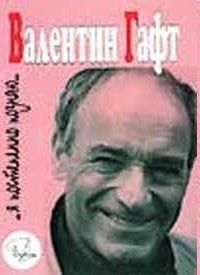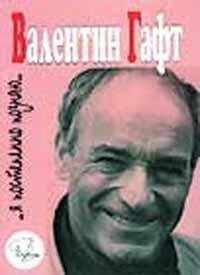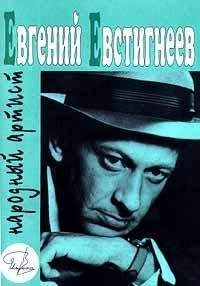Борис Полевой - Силуэты
И все же, поднимаясь теперь, в апреле 1958 года, на семнадцатый этаж, я волновался так же, как и три года назад. Писательница продолжала оставаться для меня фигурой почти легендарной.
На этот раз спутниками моими были ветераны второй мировой войны — веселые, громогласные люди. Но и они притихли, стали говорить вполголоса, когда мы подошли к знакомому дому. И только розы, самый большой букет роз, какой нам только удалось набрать в цветочном магазине, неистово благоухали, перебивая классические кошачье-помойные ароматы, наполнявшие полутемный коридор.
Войнич вышла к нам все такая же прямая, хотя, как показалось мне, ступала она не так уж твердо. На ней было то же белое свободное платье. Такими же пытливыми были ее светлые глаза. Вообще она мало изменилась. Зато в знакомой квартирке перемены были разительными. Исчезла ветхая мебель. Ее заменила удобная, современная. Стены комнаты совсем скрылись за сплошными полками книг. Это были книги Войнич, изданные на языках народов Советского Союза, на чешском, китайском, польском, вьетнамском, на многих других языках. Книг было так много, что квартирка стала еще теснее, а юноша с портрета Франчабиджо смотрел на нас печально-встревоженными глазами из узкого прогалка меж тесно лежащими томиками.
К двери приколота кнопками афиша: опера советского композитора Спадавеккиа «Овод». Афиша вся испещрена автографами советских певцов и певиц — участников спектакля, трогательными надписями, адресованными автору книги.
— Видите — ко мне пришло сразу… так много славы… что тут стало… совсем тесно, — сказала хозяйка дома, показывая эти свои богатства. — Тут есть одна книжка, — писательница медленно поднялась, подошла к полке, взяла томик на непонятном нам языке. — Вот эта… монгольская… Она мне особенно… дорога… Знаете почему?.. Мой муж бежал с каторги… в Монголию… Он рассказывал: родовой строй… кочевники… ламы… И вот — моя книга…
Русские слова, фразы получались разрубленными. И все-таки это был замечательный, чистый, староинтеллигентский русский язык.
На столе лежал ворох свежей почты. Множество разноцветных конвертов с марками и штемпелями, главным образом, социалистических стран. Некоторые конверты не были еще и вскрыты…
— Нас с мисс Нил совсем… как это… нас захлестнуло… Не успеваем читать — такое внимание… Прошу вас присесть… Теперь всем хватит… стульев… Прошу вас.
Но все-таки мы по-прежнему уселись кружком на ковре, чтобы не заставлять собеседницу напрягать голос…
— Я теперь… богатая… помещица… У меня своя… усадьба, свой… парк. Парк с прудом… с рыбками… Русский парк…
В самом деле, на круглом столе, стоящем впритык к окну, кто-то чрезвычайно искусно насадил для нее из маленьких растений и мхов микроскопический парк, живой парк с аллейками, с зарослями, с прудиком посредине, роль которого исполняла наполненная водой голубая тарелка. В «прудике» действительно плавали крохотные рыбки. Но самым примечательным в этом расположенном на столе парке, подобие которому мне доводилось видеть лишь на юге Китая, было то, что пересекала его аллея растеньиц с белыми стволами, очень похожими на стволы берез, а над водой склонились мхи, напоминавшие наши плакучие ивы.
Рядом с парком стояло глубокое старое кресло, единственное сохранившееся от былой обстановки. На спинке его довольно нагло сидела знакомая мне кукла-матрешка, какими у нас накрывают чайники. С год назад моя жена послала сюда эту куклу ко дню рождения писательницы с дружеской надписью, сделанной на фартуке.
— Утром мне откроют окно… Я сажусь в кресло рядом с… Матреной Ивановной… Мы сидим с ней молча… Смотрим на березки… вспоминаем Россию… Вы прекрасный, талантливый народ… Мы с сестрой вами всегда восхищались… Вы заслужили свою великую долю…
Писательница с нашей помощью опустилась в любимое кресло. Кукла очутилась у нее на руках. Но на этот раз собеседница не рассказывала, а спрашивала. Все о нашей стране интересовало ее — школы и спутники, медицинское обеспечение и, как она выразилась, «крестьянский вопрос», положение женщин, религия, дети, дорожное дело, семья…
И хотя нам хотелось расспрашивать, а не рассказывать, мы честно старались удовлетворить ее любопытство. Легко было понять ее интерес к тем, кого она оставила в нищете и угнетении и кто живет теперь в новом, неведомом и, вероятно, малопонятном ей мире. В мире мечты ее юности, откуда к ней неожиданно, на склоне лет, пришла слава…
…Я делаю эти записи в семейном номере скромной гостиницы «Сольгрев», в которой мы — делегация ветеранов войны — в целях экономии валюты втиснулись все впятером. И сейчас вот под разноголосый храп моих друзей по путешествию как бы доносится до меня ее глуховатый голос, ее слова, которыми она подстегивала наше повествование о Советском Союзе…
— Удивительно… Это ошеломляет… Рассказывайте, пожалуйста, рассказывайте…
И такое уважение к нашему народу, такой интерес к нашим делам и дням звучали в этой нетерпеливой просьбе, что становилось ясно: нет, не угас пламень этой души. Она, радостно приветствовавшая когда-то во мраке царизма первые, робкие проблески революционной зари, находясь теперь на другом конце планеты, думает о нас, думает и стремится постигнуть величие наших дел.
Прощаясь, один из ветеранов, что называется, «потеряв ориентир», пригласил писательницу в Советский Союз. Она серьезно посмотрела на нас. Губы ее дрогнули.
— Ах, если бы я могла! — И это прозвучало как вскрик боли.
Нелегко такому человеку было признаваться в своем бессилии.
1963
Два облика Самуила Маршака
Редко, очень редко, но бывают люди, которые оставляют в памяти и в душе друзей такой след, что о них необыкновенно трудно, почти невозможно, писать в прошедшем времени. Живым представляешь такого человека без всякого труда. Видишь его. В ушах звучит его голос. Можно даже угадать, что человек этот сделает, как поступит в той или иной ситуации. А вот вспоминать о них трудно. Вот и сейчас — пишу, вспоминаю, но так и кажется: вдруг раздастся телефонный звонок, послышится знакомый, очень знакомый голос и скажет веселой стариковской скороговорочкой: «Дорогой, ну что вы там обо мне понаписали? Зачем это, голубчик? Кому это нужно?..»
К таким людям принадлежит и Самуил Маршак. Я был хорошо с ним знаком и, может быть, поэтому вспоминать о нем особенно трудно.
Маршак! Это имя я хорошо знал еще в моей далекой комсомольской юности. «Ах какой рассеянный с улицы Бассейной» — это было у нас поговоркой. А «Мистера Твистера» я рисковал когда-то декламировать со сцены молодежного клуба. Борьба за мир сводит нас с самыми разными иностранными людьми. Среди знакомых появились миллионеры и даже миллиардеры. Это очень разные люди, но в каждом из них я как-то невольно ищу и, что самое удивительное, нахожу какие-то черточки Мистера Твистера. Такова уж сила маршаковского слова.