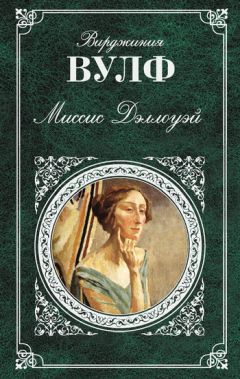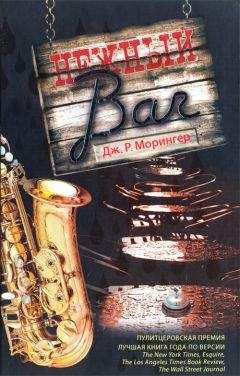Вирджиния Вулф - Дневник писательницы
А что Гиббон?
— О, с ним все в порядке, — сказал Литтон. — Форстер говорит, что он Весельчак. Но у него совсем немного мыслей. Наверное, он верил в «добродетель».
— Прелестное слово, — откликнулась я.
— Почитайте, как орды варваров громили Город. Это великолепно. Правда, у него странное отношение к ранним христианам — он совсем ничего в них не понимал. И все же почитайте его. Я тоже собираюсь в октябре его перечитать. А еще я собираюсь во Флоренцию и буду очень одинок вечерами.
— Полагаю, французы повлияли на вас сильнее, чем англичане, — заметила я.
— Да. У меня есть их определенность. Есть форма.
— На днях я сравнивала вас с Карлейлем. Прочитала «Воспоминания». Болтовня старого беззубого могильщика по сравнению с вами; у него есть отдельные фразы.
— Да, есть, — сказал Литтон. — На днях я читал его Нортону и Джеймсу, и они кричали на меня — они не захотели слушать.
— Но меня немного пугает «целое».
— У меня тоже?
— Да. Вы легко входите в тему, — ответила я. — А тема великолепная — Георг IV — одно удовольствие работать над ней.
— Что с вашим романом?
— О, я запустила в него руки, будто в кадку с отрубями[41].
— Замечательно. И он совсем другой.
— Да, я — это двадцать человек.
— Всегда словно смотришь со стороны. С Георгом IV самое ужасное то, что никто не упоминает факты, которые я считаю важными. Историю надо переписывать. Она вся мораль…
— И сражения, — закончила я фразу.
Потом мы вместе шли по улицам, потому что мне надо было купить кофе.
Четверг, 26 мая
Вчера около полутора часов просидела на Гордон-сквер, лениво беседуя с Мэйнардом. Иногда мне жаль, что я записываю разговоры людей, а не описываю их самих. Трудность в том, что они слишком мало говорят. Мэйнард сказал, будто любит похвалы и ему всегда хотелось хвастаться. Он сказал, якобы многие мужчины женятся, чтобы иметь под рукой человека, которому можно похвастаться. Однако, сказала я, странно хвастаться, когда знаешь, что тебе все равно не верят. И тем более странно, что именно вы жаждете похвал. И вам, и Литтону незачем хвастаться — вы настоящие триумфаторы. Можете просто сидеть и ничего не говорить. Я люблю похвалы, сказал он. Они нужны мне, потому что есть веши, в которых я сомневаюсь. Потом мы говорили о публикациях и о «Хогарт-пресс»; и о романах. «Зачем мне рассказывают, на каком автобусе он поехал? — спросил он. — И почему миссис Хилбери[42] не может иногда побыть дочерью Кэтрин?» — «О, это скучная книга, я знаю, — сказала я, — но неужели вы не понимаете, что сначала нужно все в нее впихнуть, а уж потом можно позволять себе пропуски?» — «Лучшее, что вы написали, — сказал он, — воспоминания о Джордже. Вам надо делать вид, будто вы пишете о реальных людях, а уж потом что-то выдумывать».
Я была, конечно же, смущена (боже мой, какая чепуха — ведь если Джордж — лучшее, то я обыкновенная бумагомарательница).
Суббота, 13 августа
«Кольридж был так же не способен к действию, как Лэм, но совсем по другой причине. Он был хорошего роста, но вялый и солидный, тогда как Лэм отличался худобой и хрупкостью. Наверное, его мучило то, что он выглядел старше своих лет, ведь он не признавал физических упражнений. Поседел он в пятьдесят лет, а так как обычно одевался во все черное и отличался внешней невозмутимостью, то имел аристократический вид и в течение нескольких лет перед смертью выглядел почтенным старцем. Тем не менее, было что-то непобедимо юношеское в выражении его круглого, румяного лица с приятными чертами и открытым, ленивым, добродушным ртом. Мальчишеское выражение очень идет тому, кто грезит и размышляет, как это делал в детские годы он, проживший всю жизнь в стороне от остального мира, в окружении книг и цветов. У него был высокий и безмятежный, словно мраморный, лоб пророка и прекрасные глаза, в которых отражался активный ум, живой и подвижный, словно мысли доставляли обоим естественную радость.
И вправду ведь доставляли радость. Хэзлитт говорил, что талант Кольриджа являлся ему в виде духа с головой и крыльями, парящего в небесах. Мне он представляется иначе. Я вижу его добродушным волшебником, который очень любит землю и с удовольствием отдыхает в удобном кресле, ибо в состоянии собрать вокруг себя небеса, стоит ему лишь мигнуть глазом. Он мог тысячу раз менять свои мысли и, когда поспевал обед, легко прогонял их от себя. Могучий интеллект и чувственное тело; ну а причина, почему он предпочитал говорить и мечтать, заключается в том, что такому телу вряд ли нужно что-то еще. Полагаю, К. не был сенсуалистом в дурном смысле…» Вот и все, что я смогла процитировать из воспоминаний Ли Ханта (том II, страница 223), предполагая в будущем желание для чего-нибудь это использовать. Л.X. — наш духовный дедушка, свободный человек. С ним наверняка разговаривали, как с Десмондом. Легкомысленный был человек, должна сказать, но цивилизованный, гораздо цивилизованнее моего собственного дедушки. Свободный дух этих энергичных людей двигает вперед мир, и когда случайно наталкиваешься на одного из них в неведомых пустошах прошлых времен, то говоришь: «Ты моего племени» — это великий комплимент. В большинстве своем люди, умершие сто лет назад, уже совсем чужие. С ними ведешь себя вежливо, но не можешь избавиться от неловкости. Шелли умер, держа в руке книжку «Ламия»[43], взятую у Хэзлитта. X. не принял бы книгу ни от кого другого и сжег ее в похоронном огне. А после похорон? X. и Байрон надрывались от хохота. Такова человеческая природа, и X. не мучился сомнениями на этот счет. Мне нравится его любопытство к людям: история очень скучна со всеми своими сражениями и законами; даже морские путешествия скучны, потому что путешественник описывает красоты вместо того, чтобы походить по каютам и рассказать, как выглядят матросы, что они носят, что едят, что говорят, как себя ведут.
Леди Карлейль умерла. Гораздо сильнее симпатизируешь людям, когда их сбивает с ног несчастье, нежели когда они празднуют победу. У нее было много надежд и талантов, и, все потеряв (так говорят), она умерла во сне, пережив своих пятерых сыновей и убитую войной веру в человечность.
Среда, 17 августа
Пока Л. не вернулся из Лондона, от Фергюссона, конторы и т.д., я могу уделить немного внимания дневнику. Мне кажется, желание писать возвращается ко мне. Я провела целый день, отвлекаясь и вновь берясь за перо, сочиняя статью — возможно, для Сквайра, потому что ему нужно что-нибудь и потому что миссис Хоуксфорд сказала миссис Томпсетт, будто я одна из самых умных, если не самая умная женщина в Англии. Значит, мне не столько сил не хватало, сколько похвалы. Вчера меня увлек поток, как говорится в Библии. Вызванный доктор Валленс пришел после обеда и нанес мне визит. Жаль, не могу записать нашу беседу. Мягкий, с тяжелыми веками, человечек средних лет, сын льюисского доктора, никогда никуда не уезжал и всегда совестливо исповедовал несколько самых общих медицинских правил, которые запомнил много лет назад. Он говорит по-французски, но употребляет только самые простые слова. Поскольку Л. и я владеем французским лучше, он предпочитает общие темы — говорит о старике Верролле и о том, как тот намеренно уморил себя голодом. — «Надо было отправить его в больницу, — задумчиво произносит доктор В. — Один раз я это сделал. Его сестра до сих пор там — совсем сумасшедшая, полагаю — плохая семья, очень плохая. Я сидел с ним в вашей гостиной. Нам приходилось сидеть прямо под трубой, чтобы согреться. Я пытался заинтересовать его шахматами. Не получилось. Его уже как будто ничего не интересовало. Слишком он был стар — и слаб. Я не мог его отправить». И он уморил себя голодом, делая вид, будто работает в саду.