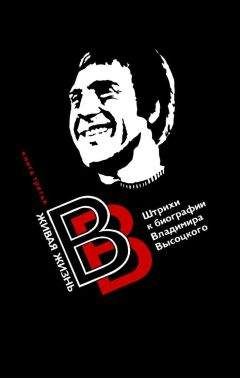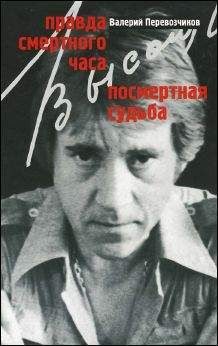Валерий Перевозчиков - Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого - 2
— Были, конечно. Как-то он мне сказал такую фразу: «Ты единственный, кто у меня ничего не просил». Для него это было удивительно. Я сказал: «Володя, а мне ничего, собственно говоря, не надо». — «Как? Ну все как-то обращаются, просят, например, что-нибудь привезти». — «Нет, — говорю, — не надо». И вот однажды, когда он только что приехал из Франции, мы были у него на улице Телевидения, и вдруг он мне говорит: «Все, старик, я все про тебя знаю». Открывает шкаф и достает великолепный, совершенно новый кожаный пиджак-красавец: «Ну-ка померь». Я надел. «Все, — говорит, — не снимай». — «Да ты что, Володя! Кто же такие подарки… И потом, я ведь не просил, зачем он мне!» — «Нет, бери». Ну я снял все-таки этот пиджак. Володя успокоился, но достал какую-то рубашку и говорит: «Если откажешься, я с тобой поссорюсь». — «Спасибо, Володя, но…» — «Все! Моя душа будет спокойна». Эта рубашка у меня до сих пор дома лежит — очень хорошая рубашка, красная, вельветовая, в мелкий рубчик. Володя любил делать добро…
Ноябрь 1987 г.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ КОХАНОВСКИЙ
Мы с Володей Высоцким учились в одной школе, более того, в одном классе. Мы с ним сразу друг друга нашли и очень подружились на одной общей страсти — любви к литературе, в частности к поэзии. Дело в том, что к нам в восьмом или в девятом классе — точно не помню — пришла новая преподавательница литературы. Это сейчас уже восьмиклассники знают, что были такие Велимир Хлебников, Марина Цветаева, Борис Пастернак, Николай Гумилев, а тогда для нас это все было не то что под запретом, но об этом просто не говорили, как будто этого периода и этих поэтов просто не было. И вдруг наша учительница стала нам рассказывать об этих поэтах и писателях. И мы с Володей бегали в библиотеку имени Пушкина — книжки достать было негде — и там читали взахлеб, выписывали. Помню, одно время очень увлеклись Северяниным, потом Гумилевым… Это я сейчас понимаю, что тогда мы увлеклись Гумилевым еще и потому, что знали его трагическую судьбу… Много его читали, выписывали стихи, многое знали наизусть. Я должен сказать, что Володя был очень начитанным человеком, читал он запоем. И возможно, что строчка Гумилева: «Далеко на озере Чад задумчивый бродит жираф…» — засела в нем, а потом вылилась в очень смешную песню о том, как в Центральной Африке как-то вдруг вне графика случилось несчастье, когда жираф влюбился в антилопу. Или, например, одно время мы увлекались Бабелем, знали все его одесские рассказы чуть ли не наизусть, пытались говорить на жаргоне Бени Крика… И ранний, как его называют, «блатной», а я бы сказал, фольклорный период Володи больше идет из одесских рассказов Бабеля, нежели от тех историй, которые ему якобы кто-то когда-то рассказывал. И эта строка «Чую с гибельным восторгом — пропадаю…» почти парафраз строчки Бабеля. Короче говоря, мы с ним стали очень много читать стихов, стали писать друг на друга какие-то эпиграммы.
Мы подружились в восьмом классе, а мне мама накануне подарила гитару в честь окончания семилетки. И я очень быстро обучился несложным аккордам, а поскольку я знал на память почти весь репертуар Вертинского, то стал очень быстро подбирать это на гитаре, и, когда мы собирались школьной компанией, я исполнял разученное. А Володя как-то попросил, чтобы я ему показал эти аккорды. Он тогда еще не писал и не думал, что вообще будет писать… В то время были очень популярны всякие буги-вуги, очень был популярен Луи Армстронг, и он пытался петь, копируя его. И Володин хрипяще-бархатный голос тому соответствовал. А может, эту хрипоту он и приобрел, когда очень здорово и смешно в то время копировал Армстронга.
В десятом классе я уже имел первый разряд по хоккею, и вместе с Сенечкиным вслед за Александровым мы были на подходе к мастерам. И когда надо было поступать в институт, мы пришли к Евгении Степановне и Семену Владимировичу посоветоваться. Семен Владимирович, как человек военный, держал с нами такую напускную строгость и сказал: «Ну, молодежь, какие планы на будущее? Значит, так, чтобы был всегда кусок хлеба — в технический вуз!»
И мы решили выбрать самый красивый пригласительный билет на день открытых дверей — таким оказался билет МИСИ имени Куйбышева. А тогда все институты были жутко спортивными, и, когда мы пришли в приемную комиссию, там у всех спрашивали: «У вас есть разряд?» Я говорю: «Есть. Первый по хоккею!» Мне говорят: «Все, идем, мы тебя устроим». А я им: «Минуточку, я с другом!» А они: «Мы вам поможем!»
Они нам действительно помогли — накануне назвали тему сочинения. У нас, конечно, было по нескольку вариантов этих тем, и мы все это переписали, получили хорошие отметки…
Еще о школьных годах. Володя был очень остроумным человеком — вы это знаете по песням, но он и в жизни был очень остроумным. В восьмом классе у нас была учительница — преподаватель зоологии, и она дала задание, чтобы мы вырастили плесень на куске черного хлеба. И Володя вырастил эту плесень на морковке, а дело в том, что эту учительницу все называли Морковкой. И она ему этого долго, до конца школы простить не могла.
Или еще смешной эпизод. Я однажды получил травму, и мне надо было вставлять зубы. Мне вставили, и, как было тогда модно, один зуб стал золотым. И Володя написал в связи с этим вот такую эпиграмму:
Напившись, ты умрешь под забором,
Не заплачет никто над тобой.
Подойдут к тебе гадкие воры,
Тырснут кепку и зуб золотой.
Или вот песня «На Большом Каретном». Там стояла наша школа и там жил Володя, а в этом же доме жил его хороший друг и даже какой-то дальний родственник— Анатолий Утевский. Толя учился в той же школе и был двумя классами старше нас. Он был из семьи потомственных юристов и, когда окончил школу, поступил в МГУ на юридический факультет. Мы кончили десятый класс, а Утевский уже проходил практику на Петровке, тридцать восемь. И ему дали пистолет — черный такой, помните: «Где твой черный пистолет?» И вот однажды бежит этот самый Толян и кричит: «Ребята, нужно, чтобы вы выступили в качестве понятых». Там взяли какого-то уголовника, и мы выступили в качестве понятых. И вот на этого Толяна тоже была эпиграмма. Я ее сейчас не помню, не ручаюсь за точность двух первых строк. В общем, этот Толя был очень красивый, и Володя написал… Да, если кто-то не знает — до революции самым знаменитым адвокатом в Москве был Плевако…
Красавчик, сердцеед, гуляка,
Всем баловням судьбы под стать…
Вообразил, что он Плевако,
А нам на это — наплевать!
Вообще, он был очень остроумным человеком и при каждом удобном случае делал что-то смешное… Я закончу эпизод с поступлением в инженерно-строительный институт. Он как-то очень быстро понял, что это не его дело. И в ночь на Новый, 1956 год мы сидели у Нины Максимовны… Да, мы были так рады, что поступили, что на этих радостях первое время очень прогуливали институт. А когда началась сессия, то выяснилось, что у нас каких-то зачетов нет. И главное, у нас не было сдано черчение, а экзамен у нас был третьего января. И второго мы должны были сдать эту работу. И мы решили (первого же чертить не будешь!) Новый год не встречать, а сидели у Нины Максимовны и чертили. Наварили кофе крепкого, чтоб не спать, разделили стол пополам книжками… Здесь была моя доска, а там — его доска. И что он чертил — я не знал, и что я чертил — он тоже не знал. Когда все было сделано ко второму часу ночи, мы решили перекурить и выпить по чашке кофе. Потом он перешел на мою сторону, а я — на его… И я дико рассмеялся, потому что то, что он там начертил, этого никто не поймет. И стало ясно, что, конечно, эту работу не примут. И тогда он грустно-грустно взял кофе, который остался от заварки, полил им эту работу и сказал: «Васечек! (Почему он меня так называл, не знаю.) Я больше в этот институт не хожу!» А я: «Что ты, как это… Мы с таким трудом туда поступили, благодаря, между прочим, моему первому разряду…» А он: «Нет, я больше могу, не хочу, я думаю поступать в театральное училище…»