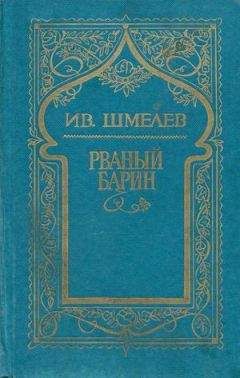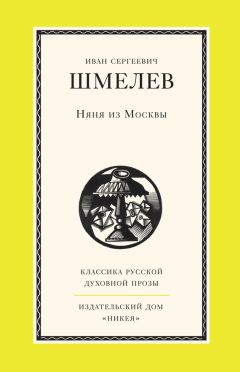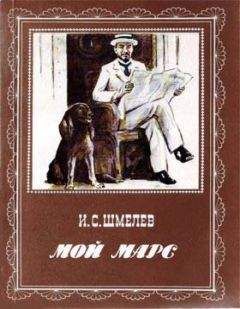Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание
В основу сюжета повести положена череда событий, рассказывающих о жизни крепостного художника Ильи. По-видимому, не случайной в ту пору для Шмелева была тема нормы и творческой свободы художника. Илья творил страстно, по своей воле интерпретируя иконописные каноны: в образе преподобного Арефия Печерского представил своего наставника иконописца Арефия, на иконе мученика Терентия — своего отца Терешку, пророк Илья в его росписи стал мужицким, в жизнь вечную шли и «маляр Терешка, и Спиридоша-повар, и утонувший в выгребной яме Архипка-плотник, и кривая Любка»; в портрете возлюбленной им госпожи изобразил чистую отроковицу с лицом Мадонны; итогом ее обо́жения стала неканонически написанная икона «Неупиваемая чаша», на которой Богородица была изображена с золотой чашей, как мученица, и без Младенца. Написанная неуставно, но, как сказано в повести, с «выражением великого Смысла», икона стала чудотворной.
Шмелев не писал о грязи, своих героев он называл людьми света, которых Фрейдом не измерить. В 1920 году Бунин принес «Неупиваемую чашу» Бальмонту, и тот потом вспоминал: «Я смутно знал имя Шмелева, знал, что он талантлив — и только. Я раскрыл эту повесть. „Что-то тургеневское“, — сказал я. — „Прочтите“, — сказал Бунин каким-то загадочным голосом. Да, я прочел эту повесть. Я прочел ее в разное время и три, и четыре раза. <…> Я читаю ее сейчас по-голландски. Этот огонь не погасишь никакой преградой. Этот свет прорывается неудержимо»[60]. 25 февраля 1927 года Бальмонт самому Шмелеву признался: «Неупиваемую чашу» он «пил три вечера», сила Шмелева «певуча и велика»[61].
В 1920-е годы эта повесть была переведена на французский, немецкий, испанский, голландский… ее узнал читающий мир. Т. Манн в 1932 году послал в Нобелевский комитет представление на Шмелева, в котором, в частности, говорилось, что «Неупиваемая чаша» достойна пера Тургенева. В письме к Шмелеву Манн высоко оценил это произведение: оно «находится на высоте русского эпоса, оставаясь в то же время глубоко личным произведением»[62]. А поэтесса Лилли (Лидия) Нобль, дочь английского поэта и философа Э. Нобля, по матери русская, переводчица на английский язык стихотворений Бальмонта, сообщила Константину Дмитриевичу, что, по ее мнению, как и по мнению ее родителей, «Неупиваемая чаша» — «произведение гениальное»[63]. Хорватский поэт Божо Ловрич писал Шмелеву 27 марта 1928 года:
Дорогой мастер, благодарение Вам за прекрасную книгу и за дружеские слова. Ваше произведение я прочитал тотчас же. «Неупиваемая чаша» единственна во всех отношениях. Вы прирожденный музыкант. За последнее время мало какое произведение захватило меня, как Ваша повесть о художнике-мужике. Слова Ваши — тихие, набожные и полные какой-то неодолимой тоски томленья. Так может писать лишь человек, который много мучился и, наконец, во избавленье от отчаянья, нашел утеху в боли. Это парадокс — и однако же истина! — когда я читал Вашу книгу, со мной было так, как будто я слушаю биения Вашего сердца. Так, слышу ваше дыханье… Я чую Вашу молитву в «Неупиваемой чаше», как в «Человеке из ресторана» я чую Ваш бунт.
Но и бунт Ваш тихий, одухотворенный. И когда Вы говорите об обычных вещах, Ваше слово — сказ. Вам не нужно труб и барабанов, Вы не хотите резких эффектов, и в том Ваше величие. Как мы схожи один с другим! Как будто мы братья… я, Вы и великий наш друг Бальмонт. Это школа тихой поэзии, которая в своей тишине чувствует, как бьется и мучается сердце мира, сердце всемирности. Все, что сотворено, мучится, чтобы выразить себя и чтоб найти свою конечную форму.
Благодарение Вам еще раз за дар! Вам преданный
Божо Ловрич[64].Письмо перевел Шмелеву Бальмонт — он был переводчиком поэзии Ловрича на русский, Ловрич же переводил его произведения на сербский.
Написал во избавление… Ловрич понял Шмелева. И в дальнейшем Шмелев спасался от ужаса существования, от отчаяния, от одиночества творчеством. Ловричу был понятен психологический подтекст. Напротив, Сельма Лагерлеф, по-видимому, мало что поняла в «Неупиваемой Чаше». Она написала Шмелеву: да, «очень лирично, но читателям была бы непонятна покорность Ильи Вашего»… «Каково?» — удивился Шмелев и желчно заметил: «И ей, стало быть — не внятно?!»[65] Профессор-славист из Голландии Николай ван Вейк воспринял историю Ильи просто, доверившись автору, и услышал, возможно, главное — тоску человека, в которой была сокрыта сила чудотворения, он услышал слово автора о сродстве земного и высшего. Выдвигая Шмелева на Нобелевскую премию, он писал в Нобелевский комитет: «Здесь описана трагедия талантливого крестьянского сына. В образах святых, которые он пишет, так сильно выражены тоска его глубокой души и несбывшиеся надежды жизни, что один из них становится чудотворным, утешает и исцеляет приходящих к нему несчастных паломников»[66].
«Неупиваемая чаша», действительно, могла если не утешить, то утишить. Крымский период — самый страшный в жизни писателя. Весной 1918 года началась интервенция, войска Антанты высадились в Крыму. В конце того же года по мобилизации, объявленной возглавившим с апреля белогвардейское движение А. И. Деникиным, был призван в Добровольческую армию Сергей, и это для семьи Шмелевых имело роковые последствия. В ноябре 1919 года началось наступление красных на Южном фронте, и деникинские войска были отброшены на юг.
Переходная эпоха выдвигала нового героя — личность маргинального типа, она все более заявляла о себе как о социальной силе, вытесняя тех, кого Шмелеву вскоре пришлось называть бывшими. Все более утверждалась в его сознании мысль о том, что жизнь не наладится, а источник зла — использующие народ социалисты. В августе 1919 года ему припомнилась толстовская «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах» (1885), в которой дьявол, то есть чистый господин, как те социалисты, старался рассорить братьев и отучить народ, то бишь дураков, от труда, однако своей цели он не достиг, так и провалился сквозь землю. Шмелев увидел в этом сюжете, с одной стороны, пророчество: действительно, в стране усилиями чистых господ началась брань; с другой стороны, он понимал, что толстовское прозрение осуществлялось лишь отчасти: если в сказке кровь так и не пролилась, дьявол, в общем-то, посрамлен, то в реальности кровь залила Россию.
В октябре 1919 года Шмелев сам принялся писать сказки — и написал «Степное чудо», «Преображенский солдат» (в 1924 году — «Преображенец»), «Веселого барина», «Всемогу», «Инородное тело», «Сладкого мужика». Для многих, и для Шмелева, стало очевидной губительная сила абсолютной свободы. У М. И. Цветаевой в «Лебедином стане» (1917–1919) свобода стала «гулящей девкой на шалой солдатской груди», а Крым «буйствует и стонет». Шмелев написал в «Преображенском солдате» о такой солдатской свободе, куражливой и бессмысленной. В сказке «Всемога» бес искушает матроса, и тот, выбросив нательный крест и запродав бесу душу, разделался с начальством и под красными флагами вошел в город. В «Степном чуде» Россия показана обессиленной, окровавленной бабой, что лежала в степи с непокрытой головой, с косой, закинутой за ольховый куст, с глазами, полными слез; матрос, что мощи вскрывал и ничего не боялся, сквернословя, решил залезть бабе в карманы, но поднялась ее десница, «полнеба закрыла» — и пал матрос. Шмелев был подавлен тем, что народ столь безволен и наивен, податлив — «хоть улицу им мети»![67]