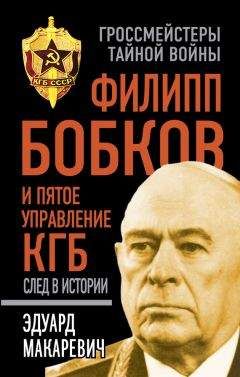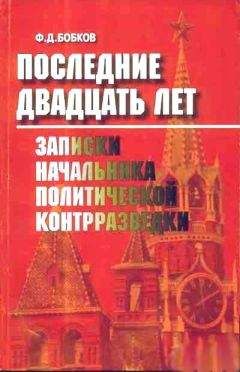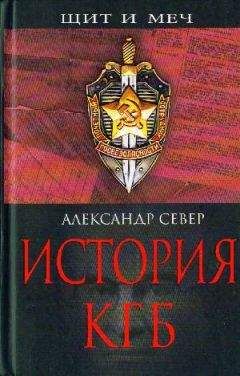Владимир Архангельский - Фрунзе
Видать, была у него думка, что гость не к добру. И для маскировки раскинул он на столе затрепанную толстую библию с рисунками Густава Доре. На правой странице излагалась семейная история «богоборца» Иакова, хорошо знакомая Михаилу еще с уроков законоучителя Янковского. Шутили тогда гимназисты об очередном библейском чуде: лишь одну ночь провел Иаков в постели с Лией, а она ухитрилась родить ему Рувима, Симеона, Левия и Иуду. А потом две жены Иакова — Лия и Рахиль — отдали ему в жены своих служанок Баллу и Зелфу, и Зелфа — служанка Лии — родила ему сына. «И сказала Лия: прибавилось. И нарекла ему имя: Гад». Фрунзе не удержался от улыбки: с большим смыслом подобрал старик библейский текст для встречи с ним!
А Отец с недоверием и не в меру строго оглядел ладную фигуру круглолицего студента и жестом указал ему на лавку.
— Ну, как звать будем, сынок? — Отец уже прочитал записку Марата.
— Трифоныч.
— Неплохо. Фамилию пока никому не говори, даже я не спрошу до времени, будешь чистый нелегал. Жить устроим у товарищей: где — ночь, где — две. Сейчас пойдешь к Черникову, отдашь записку. В ней два слова: «Одень Трифоныча». Понимаешь: студенты у нас наперечет, негоже сверкать пуговицами и дразнить полицию. Привез чего?
— Да. Литературу и десять браунингов.
— Выложь, я спрячу, вечером заберут ребята. А корзину унеси: с ней пришел, с ней и ушел. Народ кругом зоркий, никому глаз не закроешь. А сейчас чайком побалуемся. Уважаешь?
— С удовольствием!
Отец взогрел самоварчик, чинно сели под божницей и хорошо поговорили, чтоб сблизиться.
Федор Афанасьевич спрашивал дотошно: где был да кого видел, давно ли в институте и откуда родом?
Оказалось, знал Отец Барона и его свояченицу Мусю Эссен, по кличке Зверь, и боевую подругу Абсолют (ласково назвал ее Леночкой Стасовой: «В Таганке сидит. Но она железная — выдюжит!»), и Литвина — Седого, что дал записку Фрунзе на Казанский вокзал Степе — Бороде, и доктора Мицкевича («Он с Лядовым и Шатерниковым прятал в Москве Михаила Ивановича Бруснева, но ищейки все же его взяли»). Трижды видел он Марата и один раз встречался с Лениным, когда тот был еще Ульяновым, лет десять назад.
— Я его не видел, — признался Фрунзе. — А спросить о нем стеснялся.
— Вот голова! Так про товарища спросить никогда не грех. С ним, бог даст, и повидаешься: только взойдет революция на гребень, он и пожалует. Точно говорю, без него партия неполная, он ей голова! Какой теперь Владимир Ильич — не знаю, а в те годы был малость тебя постарше, но с бородкой, и от лысины делалось на темени просветление. Живой, непоседливый, и говорил быстро, будто ему всегда недосуг. Как он меня про Шелгунова спрашивал, про Николая Васильевича, словно ему дружок был, хоть ни разу с ним и не свиделся! Все знал, даже про то, как Шелгунов с женой подавались в Сибирь выручать из крепости своего дружка Михайлу Ларионыча Михайлова. И про Михайлова все знал. И, будто к случаю, спросил, не знакома ли мне его песня: «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою, родину-мать вы спасайте, честь и свободу свою».
Потом еще и про Николая Федосеева спрашивал: не видался ли я с ним в «Крестах» в девяносто третьем году? «Нет, — говорю, — я там после него сидел. А видел его на воле в Орехово-Зуеве, он тогда читал нам свои письма о программе действий рабочих». — «Я к тому говорю, — сказал Ленин, — что сам мечтал у него заниматься в кружке, в Казани. Ездил во Владимир повидаться с ним, да не пришлось — угнали его в Сибирь…»
Я жалею, а уж про Ленина и говорить нечего: семь годов назад наложил на себя руки Николай Евграфович в ссылке. И побыл-то на свете всего двадцать шесть лет, а рабочие никогда его не забудут!
Чай пить кончили, завели разговор о делах ивановских. После Кровавого воскресенья рабочие начали стачку, но ее быстро ликвидировали: похватали многих подпольщиков, разгромили типографию. Однако митинги шли с неделю, люди говорили гневно. И Отец всякий раз предлагал почтить минутой молчания память погибших 9 января. Стариков и старух посылали с кружкой: денег собрали и перевели питерским товарищам, у кого не стало кормильца.
— А недавно написали листовку. — Отец откинул половицу возле печки, достал бумагу из жестяной коробки от табака, показал Фрунзе.
— Я ее знаю, в Москве читал.
— Посылали мы в «Голос труда», дошла, стало быть… Скажем так: первая наша цель — работать восемь часов. Сейчас по России полный раскардаш: кой у кого работают восемь, у некоторых — десять часов. Там народ подымался, ну и добился. А у нас гнут спину одиннадцать часов с половиной, получают до пятнадцати целковых в месяц. И нищета кругом, потому что у большинства семьи — старики, дети. Фабриканты наши пошли на хитрый маневр: раз у ихних дружков делается рабочим поблажка, им бы тоже не отстать, пока заваруха не вышла. Собрались они на совет и скумекали: полчаса скинуть, а у рабочих взять подписку — довольны, мол, они этой милостью и душевно благодарят хозяев за одиннадцать часов.
— Вряд ли такие найдутся, — усомнился Фрунзе.
— И не говори, Трифоныч. Деревенщина! Это тебе не металлисты или печатники. Есть даже такие, что агитируют за подписку. И хозяева не сомневаются, что дело у них выгорит. Только мало кто видит, как они хитрят и свое наверстывают: шестеренки меняют и приводы, чтоб машины ходили быстрей. И так-то невмоготу, а при быстром ходе возле нее и не выстоишь. А Бакулин еще дальше шагнул и расценки уже снизил: на один сорт — три копейки, на другой — пятачок. Мы и говорим людям: «благодетелей» не щадить, работать только восемь часов, получать не меньше двадцати рублей. Заартачатся хозяева — стоп машина!
— A все ли сделано? Готовы люди идти на стачку?
— Это же, Трифоныч, как снежный ком на вершине бугра. Не толкнешь — не покатится. А чтоб хороший толчок дать, надо сплотить людей вокруг партии. Вот мы и ставим в листовке вторую, главную цель: «Долой самодержавие!» Конечно, хозяева в дугу пойдут, но на восемь часов не согласятся. Стачки не миновать. А наше дело — дружно толкнуть ком с горы. Для этого собираем девятого мая партийную конференцию.
Отец спрятал листовку в подпол, туда же сложил литературу и оружие. И уже не присел на лавку, а прошаркал валенками по комнате из угла в угол.
— Паспорт есть? — Он снял очки и протер платком слезящиеся глаза.
— Сделали. Мещанин города Коврова Семен Антонович Безрученков, — Фрунзе похлопал рукой по нагрудному карману.
— Ну, это для полиции. А пока ты смени одежду и оглядись: городок наш невелик, за день-то трижды успеешь вдоль и поперек. По темному приходи к Евлампию Дудаеву, я ему дам знать о тебе. Пистолет возьмешь, когда снадобится… Ну, а в смысле денег — есть чего? Или по пословице: хвать в карман, ан дыра в горсти?