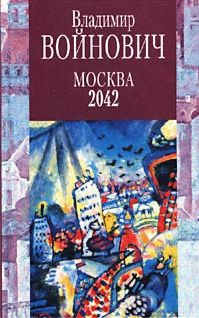Екатерина Мещерская - Китти. Мемуарная проза княжны Мещерской
Когда мы вошли в кабинет, Агеев напустил на себя небывалую важность, делая вид, что читает какие-то лежавшие перед ним бумаги.
— Куды вчерася все уходили? — спросил он, стараясь казаться спокойным, спрашивая как будто между прочим и даже не поднимая на нас своего страшного взгляда.
— Никуда, — в один голос ответили мы.
— Иде были, спрашиваю? — Его желто-оранжевые от махорки пальцы злобно забарабанили по столу.
— Мы нигде не были. Мы спали. — Мама отвечала на этот раз одна. Отвечала очень спокойно и даже, как ни странно, дружелюбно. Агеев поднял голову. Теперь он уже уставился на нас.
— Вр-р-решь!!! — загремел он. Мама и я молчали.
— Отвечайте, иде вы все были? — снова заорал он.
— Я уже сказала: мы спали, — не теряя хладнокровия, ответила снова мама.
— Затвердили в одну дуду, с-с-с-сволочи! — Теперь Агеев всем своим корпусом повернулся ко мне. — Тады ты отвечай: иде вы были? — Его кровавый глаз блеснул, словно в нем чиркнули спичкой. — Ежели вы спали, то иде вы были, кады мы к вам наверх приходили? А?
— Мы все очень крепко спим, — отвечала я, сама радуясь беззаботному своему тону, — наверное, потому вашего прихода и не слыхали, а вот почему вы нас не видели, вот этого я не понимаю…
— Вон, гады! Во-о-он! — что есть мочи заорал Агеев.
Он долго еще орал нам что-то вслед, когда мы с мамой уже выскочили за дверь кабинета.
В этот вечер я впервые отдохнула: никто не пришел к нам наверх, и я была свободна от «Чайки».
Зато в тот же вечер внизу, около входных дверей, шла страшная возня. Теперь помимо деревянного болта, служившего запором, с двух сторон двери были набиты два тяжелых железных крюка. И мы услышали, как на ночь сначала задвинулось бревно, а затем дважды проскрипело железо обоих крюков. Теперь мы сидели уже на тройном запоре. Причем с этого дня не только дальше ограды парка, как это было до сих пор, но даже на площадку перед дворцом нам запретили выходить. В нашем распоряжении остался лишь маленький четырехугольник двора перед самым домом, да и то потому, что надо было ходить к колодцу и за дровами.
Что касается Натальи Александровны и ее дочерей, то к восьми часам вечера они все должны были быть дома.
Об этом жестком режиме, который Агеев сам же и выдумал, он прочел нам по смятой, вынутой из кармана штанов бумажке.
Атмосфера наших взаимоотношений заметно накалялась. Несмотря на мольбы мамы и Натальи Александровны, я завязала бинтом два пальца на руке и говорила, будто обварила их. По этой причине так называемые «музыкальные вечера» были прекращены. Агеев хмуро косился на мои завязанные пальцы, но молчал.
— А вдруг Агеев потребует, чтобы ты развязала бинт и показала ему ожог? — боялась мама.
— Не знаю, что тогда… Но играть я больше не буду. Мама вздыхала, но я была упряма. В моей памяти вставали яркие картины Великой французской революции.
— Мама, насколько лучше и прекраснее гильотина! — говорила я.
— Безумная девочка! Мы с твоим характером наживем беду… — И мама обнимала меня.
Тогда Агееву пришло на ум заставить петь и играть Валю. Но когда она, надев пенсне, отчаянно щурясь, запела в нос романс Вертинского, Агеев рявкнул свое классическое «Будя!», и музыкальный вечер прекратился. Вечера стали пустыми, тихими, и молчаливость не предвещала ничего хорошего.
Агеев, очевидно, решил нам мстить, и эта месть была препротивной, так как она весьма трепала нам нервы. Теперь очень часто среди ночи мы просыпались от скрипа двери. Какие-то головы, просовываясь в дверь, заглядывали в наши спальни. Затем исчезали. По удалявшимся вниз по лестнице шагам мы догадывались, что это проверка. Так нас будили иногда два или три раза среди ночи. Все это очень походило на издевательство. Через Наталью Александровну обо всем этом было известно Владыкиной, но она ничем не могла нам помочь. Однажды она специально вызвала к себе Наталью Александровну и имела с ней долгую беседу. Она касалась нашей судьбы, и Владыкина просила передать маме, что, поскольку мы с мамой живем в помещении больницы, Агеев выселить нас и сделать с нами что-либо может только по указанию Центра и что ей, Владыкиной, известно, что именно таких указаний в отношении нас он добивается.
Хотя это и не было для нас новостью, но все же, узнав об этом от Владыкиной, дружески к нам настроенной, мы со дня на день ждали самого худшего.
Наши взаимоотношения с первым этажом катились вниз с головокружительной быстротой. Агеев и его товарищи теперь только мимоходом здоровались с нами и ни в какие разговоры больше не вступали.
Так как наши продукты кончились, а от Борщей мы еще не получили новых, то наши общие обеды и чаи тоже кончились. Поэтому мы уже вниз больше не спускались. Мама ежедневно варила Агееву и его компании кастрюлю супу или чугунок каши.
Поняв, что наши дни сочтены, мы махнули на все рукой и неоднократно среди ночи, в одних чулках пробирались в «Шехеразаду». Два раза наши исчезновения были замечены. Невозможно описать, какие волнения это вызвало!.. Прежде всего, на всем втором этаже был немедленно произведен самый тщательный обыск. Наши стражи во главе с Агеевым исследовали весь пол и углы комнат. Очевидно, они предполагали существование какого-то скрытого хода подо всем полом. Но ни разу не остановила на себе их внимания такая заметная, отличавшаяся ото всех остальных «печь»! Еще удивительнее было то, что никому из них не пришла в голову мысль пересчитать с внешней стороны дома окна и сравнить их число с числом окон внутри дома. Тогда бы сразу выяснилось, что одно окно лишнее. А если бы кто-нибудь из них вздумал хотя кустарно начертить план дома, то, сравнив первый этаж со вторым, можно было бы без труда найти местоположение засекреченной комнаты — «Шехеразады».
Но вместо всего этого Агеев искал какую-то скрытую под полом лестницу, которая бы вела в какой-то подземный ход, который выходил бы на улицу где-то недалеко от дома. Несколько дней все они толклись во дворе, что-то вымеряли, соображали и даже пытались проникнуть в подземелье дворца, но вход в него был завален горой снега, которая, подтаяв на весеннем солнце, обратилась в ледяную глыбу.
Потом вдруг все расследования прекратились. Наступила угрожающая тишина, но Агеев и все его товарищи стали как-то по особенному на нас смотреть. Где-то в глубине глаз у них прятались удивление и опаска.
Мы все чаще стали собираться в «Шехеразаде», советуясь между собой. Нам стало казаться, что они догадываются о нашем тайнике, но тут неожиданно пришла разгадка и все раскрылось.
Однажды они среди ночи пришли к нам и вновь нашли комнаты пустыми. И тогда, сидя в «Шехеразаде», мы замерли, не веря своим ушам. Что за дикие, что за нелепые рассуждения мы услышали!.. Даже сам Колосовский, молодой и начитанный более остальных, сам Колосовский утверждал, что «княгиня-то и есть из них самая главная ведьма! Потому что она самая красивая и даже ладно сложена»…