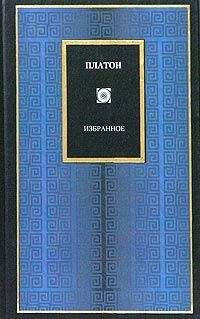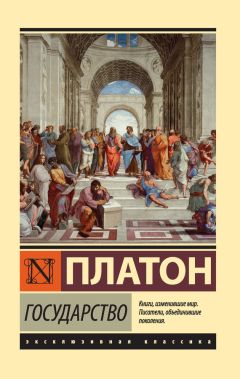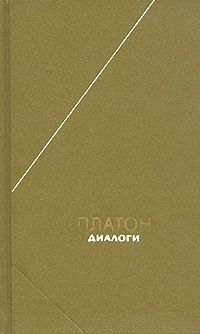Государство. С комментариями и иллюстрациями - Платон Аристокл "Платон"
– Понимаю, – сказал он.
– Так пойми же и то, – продолжал я, – что бывает опять и противоположная ей, когда кто исключает слова самого поэта, вставленные между речами, и делает рассказ обоюдным.
– И это понимаю, – сказал он, – такой рассказ бывает в трагедии.
– Очень верно полагаешь, – заметил я, – теперь могу открыть тебе и то, чего прежде не мог, а именно, – что поэтические и баснословные рассказы составляются иногда всецело чрез подражание, каковы, как ты говоришь, трагедия и комедия, иногда чрез повествование самого поэта, что особенно найдешь в дифирамбах, а иногда – тем и другим способом, как это бывает в поэмах и во многих иных сочинениях, если ты понимаешь меня.
– Да, понимаю, что тогда хотел ты сказать, – примолвил он.
– Вспомни же, что мы говорили пред этим-то: так вот явно, сказали мы тогда, какие должны быть у нас предметы речей; теперь следует рассмотреть, как об этих предметах надобно беседовать.
– Да, помню.
– Знай же, что целью моих слов было именно это: нам нужно условиться, – позволять ли у нас поэтам составлять повести чрез подражание или частью чрез подражание, частью нет, и каков должен быть тот и другой способ; или подражания вовсе не позволять.
– Я догадываюсь, – заметил он, – ты заглядываешь, принять ли в наше общество трагедию и комедию или не принимать.
– Может быть, еще и более этого, – сказал я, – сам не знаю: куда слово, как дух, поведет нас, туда и пойдем.
– Да и хорошо-таки, – примолвил он.
– Сообрази-ка, Адимант, вот что: стражи должны ли быть у нас подражателями или не должны? Впрочем, и из прежнего следует, что всякий может хорошо исполнять одну должность, а не многие; если же и берет на себя это, то, хватаясь за многое, ни в чем не успеет столько, чтобы заслужить одобрение.
– Как не следует?
– Но не то же ли и о подражании? То есть в состоянии ли кто-нибудь хорошо подражать многому, как одному?
– Конечно, нет.
– Стало быть, приступая к достойным внимания делам, едва ли кто исполнит в них все, и, подражая многому, едва ли сделается подражателем, когда одни и те же люди не в состоянии хорошо подражать даже двум вместе, по-видимому, близким родам подражания, то есть сочинить комедию и трагедию. Или ты не назвал их подражаниями?
– Назвал, и твое мнение справедливо, что одни и те же люди не могут делать этого.
– Ведь и рапсодисты-то не могут быть вместе актерами.
Рапсодисты (рапсоды) – это «сшиватели песен» или «певцы с жезлом в руке», то есть профессиональные исполнители эпических, главным образом, гомеровских поэм в Древней Греции. Это странствующие певцы, декламировавшие поэмы с жезлом в руке (жезл был символом права выступать на собрании).
– Правда.
– У трагиков и комиков даже и актеры не те же самые, и все это – подражание. Или нет?
– Подражание.
– Да, что еще, Адимант: мне кажется, будто человеческая природа рассечена на малейшие части; так что хорошо подражать многому и обращаться с предметами, по отношению к которым подражания суть подобия, она не в состоянии.
Тут говорится – мельчайших разницах между способностями, которыми один человек отличается от другого и которые потому остаются предметом, ни для кого неподражаемым, или точнее – таким, какого никто в полном совершенстве, через подражание, выразить не может.
– Весьма справедливо, – сказал он.
– Итак, если мы хотим удержать прежнюю свою мысль, то стражи у вас, оставив все другие искусства, обязаны быть тщательнейшими художниками общественной свободы; им не следует заниматься чем-либо, что не ведет к этому; ничего-таки иного не должны они делать и ничему иному не должны подражать. Когда же и будут, то их подражание должно начинаться с самого детства и быть приспособленным к их обязанностям, чтобы сделать их мужественными, рассудительными, благочестивыми, свободными и тому подобное: а что не свободно или как иначе постыдно, то да будет чуждо их деятельности и подражания, ибо в противном случае подражание вещи познакомит их с самою вещью. Или ты не знаешь, что быв повторяемо с юности, оно переходит в нрав и природу, отпечатлевается и в теле, и в голосе, и в уме.
Иначе от подражания они перейдут к бытию, то есть примут свойства тех вещей, которым подражали. Поверкой этой мысли может служить общество людей, в котором человек постоянно вращается. Обращаясь с теми или другими людьми, он начинает подражанием их языку, обычаям, наклонностям и т. п., а заканчивает тем, что сам становится одним из членов избранного им общества.
– И очень, – сказал он.
– Так не позволим, – продолжал я, – чтобы люди, о которых мы заботимся и которые должны быть добрыми, – чтобы эти люди, будучи мужчинами, подражали женщине – молодой или престарелой, ссорящейся с мужем или ропщущей на богов и величающейся, почитающей себя счастливою или бедствующею, скорбящею, жалкою. Не наше дело, что она страдает, любит или болезнует родами.
– Без сомнения, – сказал он.
– И то – не наше, что служанки и слуги совершают дела, приличные слугам.
– И это.
– И то, что дурные люди, по обыкновению, бывают малодушны и делают противное тому, о чем мы говорили, то есть злословят и осмеивают друг друга, ведут постыдный разговор в пьяном и даже в трезвом виде, или грешат как иначе словом и делом против себя и других людей. Я думаю, что стражи не должны даже привыкать ни к словесному, ни к деятельному представлению бешеных. Нужно, без сомнения, узнавать бешеных и лукавых людей – мужчин и женщин, но совершать их дела и подражать им не нужно.
– Весьма справедливо, – сказал он.
– Ну, а кузнецам и прочим мастеровым, перевозчикам на весельных судах и начальникам их, либо другим в этом роде людям нужно ли подражать? – спросил я.
– Да как же будут подражать те, – отвечал он, – которым и внимание-то обращать на все такое не позволяется?
– Ну, а ржанию лошадей, мычанию быков, шуму рек, реву морей, грому и всему подобному будут ли они подражать?
– Но ведь им запрещено и приходить в бешенство, и подражать бешеному, – сказал он.
– Стало быть, сколько я понимаю тебя, бывает и такой род речи, либо повествования, в котором может повествовать человек истинно добрый и честный, когда находит нужным что-нибудь высказать; бывает опять и такой, который нисколько не походит на этот и которого в повествовании всегда держится человек, по природе и воспитанию противоположный первому.
Изгоняя из своего государства поэзию подражательную или драматическую, Платон одобряет однако же расположение поэта подражать добрым нравам. А так как в людях меньше доброго, чем худого, то хороший писатель будет больше рассказывать, чем подражать, а плохой – больше подражать, чем рассказывать.
– Какие же это роды? – спросил он.
– Мне кажется, – продолжал я, – что человек мерный, приступая в своей повести к изложению речей или действий мужа доброго, захочет изобразить его таким, каков он сам, и не будет стыдиться этого подражания – ни тогда, когда доброму, действующему осмотрительно и благоразумно, подражает во многом, ни тогда, когда его подражание доброму, страдающему либо от болезней, либо от любви, либо от пьянства, либо от какого-нибудь другого несчастья, бывает невелико и ограничивается немногим. Но если бы он встретился с человеком недостойным себя, то не шутя, конечно, не согласился бы уподобиться худшему, – разве на минуту, когда бы этот худший сделал что хорошее: ему было бы стыдно, что он должен отпечатлеть в себе и выставить типы негодяев, которых мысленно презирает; а когда бы это и случилось, то разве для шутки.
– Вероятно, – сказал он.
– Итак, в повести не воспользуется ли он теми замечаниями, которые мы недавно сделали, рассматривая песнопения Гомера? И хотя его речь не будет чуждаться того и другого способа, то есть и подражания, и рассказа в ином виде; однако ж подражание не войдет ли только в малейшую часть длинной его речи? Или я говорю пустяки?