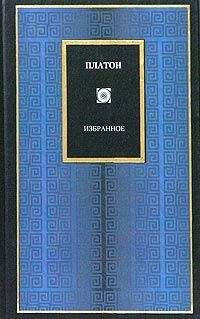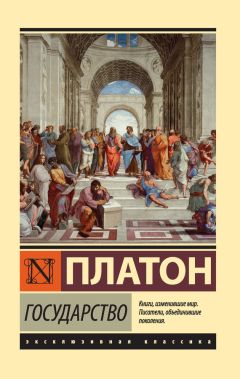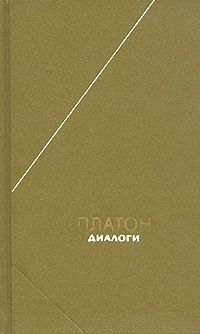Государство. С комментариями и иллюстрациями - Платон Аристокл "Платон"
– Да, конечно, должны, – сказал он <…>
– И пусть не сердятся на нас Гомер и остальные поэты <…> потому, что чем более в них поэзии, тем менее позволительно слушать их детям и взрослым, если они должны быть свободны и больше бояться рабства, чем смерти.
– Без сомнения.
– По той же причине надобно выкинуть и все относящиеся к этому страшные и ужасные названия, – Коциты, Стиксы, подземных духов, мертвецов и другие того же рода, приводящие слушателей в сильный трепет. Может быть, они и хороши для чего другого; но мы боимся, как бы стражи, чрез этот трепет, не сделались у нас чувствительнее и нежнее надлежащего.
В десятой песне «Одиссеи» Ахерон – это одна из рек в подземном царстве. Через нее Харон перевозил в челноке прибывшие тени умерших. По другой версии, он перевозил их через Стикс. Считалось, что в Ахерон впадают две реки подземного царства – Пирифлегетон (Флегетон) и Коцит (Кокитос). Стикс же в древнегреческой мифологии является олицетворением первобытного ужаса и мрака, из которых возникли первые живые существа.
– И справедливо боимся, – промолвил он.
– Так это надобно отвергнуть?

– Да.
– И выражать словом и делом противный тому тип?
– Очевидно.
– Стало быть, мы исключим также стенания и жалобы знаменитых мужей?
– Необходимо, – сказал он, – если уж и прежнее.
– Так смотри, – продолжал я, – справедливо ли исключим мы это или нет. Мы говорим же, что честный человек не признает явлением ужасным смерть честного, хотя бы это был и друг его.
– Конечно, говорим.
– Следовательно, не будет и скорбеть о нем, как будто бы он потерпел что-то ужасное.
– Конечно, не будет.
– Мы говорим даже и то, что такой человек особенно самоудовлетворителен для жизни хорошей и преимущественно пред прочими наименее нуждается в другом.
– Правда, – сказал он.
– Поэтому для него наименее страшно лишиться или сына, или брата, или денег, или чего иного тому подобного.
– Конечно, наименее.
– Значит, он наименее также будет скорбеть и сохранит величайшую кротость, когда постигнет его какое-нибудь подобное этому несчастье.
– И очень.
– Стало быть, мы справедливо можем исключить стенания славных мужей и предоставить их женщинам, да и женщинам-то не лучшим. Если же и мужчинам, то плохим, чтобы те у нас, которых мы хотим воспитывать для охранения страны, отвращались от подобной слабости.
– Справедливо, – сказал он. <…>
– Надобно также высоко ценить и истину. Если недавно сказанные вами слова справедливы, и богам ложь действительно не полезна, а людям она приносит пользу в виде лекарства, то явно, что ее можно предоставить врачам, частные же лица прибегать к ней не должны.
Платон начинает объяснять любовь к истине, в которой усматривается благоразумие и мудрость, и доказывает, что и эта добродетель столь же необходима для стражей государства.
– Явно, – сказал он.
– Значит, более, чем кому-нибудь, идет лгать правителям общества – либо ради неприятелей, либо ради граждан, когда имеется в виду общественная польза, а всем прочим это непозволительно. И ложь частного человека пред такими-то именно правителями назовем столь же великим, даже еще большим грехом, чем неверное показание больного пред врачом, либо гимназиста пред педотрибом, касательно их телесных ощущений, или чью-либо скрытность пред кормчим в рассуждении корабельщиков, то есть что сделал кто-нибудь либо сам, либо его товарищ.
Согласно Платону, высшее сословие государства образуют властители, которые постоянно пекутся об общественном благе. Властители в государстве – это то же, что разум в индивидуальной жизни.
– Весьма справедливо, – сказал он.
– Поэтому, если правитель обличает во лжи тех из граждан, которых название: мастер народный вещун, например, болезней целитель и делатель копий, то наказывает их как людей, вносящих в государство, будто в корабль, разрушительное и гибельное орудие.
– Особенно когда к словам присоединяется и дело, – промолвил он.
– Что же? Не нужна ли нашим юношам и рассудительность?
Рассудительность, по учению Платона, должна выражаться двояко: повиновением правительству и обузданием страстей.
– Как не нужна?
– Важнейшее же дело рассудительности не в том ли больше частью состоит, чтобы быть послушными правительству, а самим управлять своими удовольствиями в отношении к пище, питью и любовным наслаждениям?
– Мне кажется <…>
– Далее мы должны еще, думаю, исследовать способ беседования, и тогда у нас вполне определится, что и как надобно говорить.
До этого Сократ говорил только о содержании речей, которые прилично предлагать юношам, да и то лишь в отношении к богам, духам и героям, а теперь он намерен рассмотреть, какова должна быть форма беседы с юношами.
– Но этих-то слов твоих я уже не понимаю, – сказал Адимант.
– А ведь нужно же, – сказал я. – Впрочем, может быть, лучше поймешь так: все рассказываемое баснословами и поэтами не есть ли повествование либо о прошедшем, либо о будущем?
– О чем же иначе?
– И не правда ли, что они выполняют это либо посредством простого рассказа, либо посредством подражания, либо тем и другим способом?
Здесь Сократ различает три формы поэтического рассказа: поэт или рассказывает что-нибудь от себя, или заставляет говорить другие лица и в таком случае подделывается под их характеры, под их образ мыслей и выражений, или оба эти способа смешивает один с другим. Платон допускает в свое государство только первый род поэзии, потому что он ставит поэта в пределы собственных его обязанностей и не располагает его, как прочие роды, входить в дела других людей.
– И это, – примолвил он, – хотелось бы мне понять яснее.
– Видно же, я кажусь тебе смешным и темным учителем, – заметил я. – Так подобно людям, не имеющим дара слова, я возьму не общее, а что-нибудь частное, и чрез то постараюсь объяснить тебе, чего хочу. Скажи мне: знаешь ли ты начало Илиады, где поэт рассказывает, как Хризис упрашивает Агамемнона отпустить его дочь, как Агамемнон гневается на него за это и как тот, не получая просимого, проклинает ахеян пред лицом Бога?
– Знаю.
– Стало быть, знаешь и то, что до следующих стихов —
говорит сам поэт: он не хочет, чтобы наша мысль отвлекалась кем-нибудь иным, будто бы говорил кто другой, кроме его. Но после этих стихов начинается речь как бы самого Хризиса, который старается живо уверить нас, что тут надобно представлять говорящим не Омира, а жреца, этого самого старца. Так составлены, почитай, и все рассказы о событиях и при Трое, и на Итаке, и в целой Одиссее.
– Конечно, – сказал он.
– Что же? Повествование не есть ли повествование и в том случае, когда Гомер представляет непрерывно одни речи, и в том, когда между речами он помещает рассказ?
– Что же иначе?
– Но как скоро он вводит чью-нибудь речь, как будто бы говорит кто другой, то не скажем ли мы, что он ближайшим образом подделывается под беседование каждого из тех лиц, которое представляет говорящим?
– Скажем; как не сказать?
– А подделываться под другого, либо голосом, либо видом, не значит ли подражать тому, под кого подделываешься?
– Как же?
– Так вот таким-то, вероятно, образом и прочие составляют повести чрез подражание.
– Конечно.
– Если же поэт нигде не скрывает себя, то вся его поэма, все его повествование идет без подражания. А чтобы ты не повторил, будто опять не понимаешь, я покажу, как это бывает. Пусть Гомер, сказав, что пришел Хризис, принес выкуп за дочь и просит ахеян, особенно же царей их, вслед за тем говорил бы не как Хризис, а как сам Гомер – знай, что его рассказ был бы тогда не подражанием, а простою повестью, например, почти такою (буду говорить речью неизмеренною, потому что я не поэт): пришел жрец и молил, чтобы ахеяне, при помощи богов, взяли Трою и возвратились здравыми, а ему, приняв выкуп и боясь Бога, отдали дочь. Выслушав эти слова, прочие уважили его просьбу и обнаружили согласие; а Агамемнон разгневался и приказал ему немедленно идти назад и не возвращаться более; иначе для спасения себя недостаточно будет ему ни скиптра, ни венка Аполлонова. Прежде чем отпущу твою дочь, сказал он, она состарится со мною в Аргосе. Итак, Агамемнон повелел ему, не раздражая царя, удалиться, чтобы прийти домой в добром здоровье. Выслушав это, старец испугался и удалился молча. Но вышедши из лагеря, он долго молился Аполлону и, повторяя в памяти имена бога, вопрошал его: принес ли он ему когда что благоугодное, либо созидая храмы, либо закалая священные жертвы? Если принес, то ради сего да поклянется он, за эти слезы, отмстить ахеянам своими стрелами. Вот, друг мой, какова бывает простая повесть, без подражания.