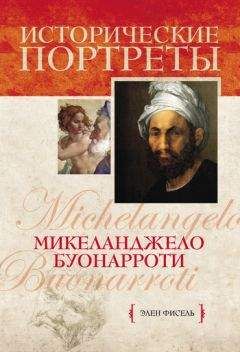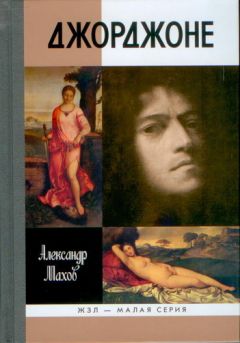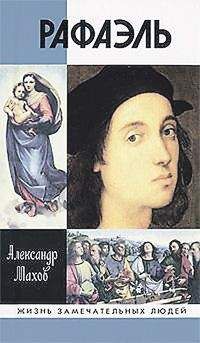А. Махов - Микеланджело
— Безумен он и в детство впал…
— Побольше бы таких безумцев, тогда бы мир куда добрее стал…
От шума захлопнувшейся на ветру ставни Микеланджело очнулся.
— Кто здесь? Лишь ветер воет. Никого. Никак стучат? — и он повернулся к входной двери. — Не заперто — входите!
На пороге появился Вазари.
— Простите, что я в неурочный час.
— Напрасно вы такое говорите. Всегда я рад, Вазари, видеть вас. Закончилось избранье в Ватикане?
— Нет, продолжается ещё конклав.
— Чего ж в колокола бьют горожане? — поинтересовался Микеланджело.
— Вот с этим я помчался к вам стремглав, — ответил, волнуясь, Вазари. — На площадях не утихают сборища, громят съестные склады, жгут дворцы. Особенно усердствуют юнцы.
Микеланджело задумался, обескураженный услышанным.
— Ждал Павел перемен, но был отравлен. Давно у нас пошло движенье вспять. Какой бы ни был новый папа явлен, от Ватикана нам добра не ждать.
Но Вазари с загадочным видом решил отвлечь мастера от грустных мыслей.
— Есть новость, от других весьма отлична, — заявил он, придав голосу значимость. — На предстоящих в Риме торжествах наш князь хотел бы навестить вас лично.
— Чего он вспомнил вдруг о стариках? — подивился Микеланджело. — Не время заниматься пустяками, когда все мысли только о делах. Особу, обожаемую вами, я не приму.
— Князь будет уязвлён, — недовольно заметил Вазари. — Он не заслуживает оскорбленья.
Разговор принял неприятный оборот.
— Не велика беда, — отрезал Микеланджело. — К чему мне он? Собор Петра…
Вазари хотелось рассказать, что князем отпущены значительные средства на обустройство капеллы Медичи, но он решил задеть самую больную струну мастера.
— А как же униженье? Замазана на фреске нагота. Ужель смирились вы с самоуправством, иль вас вконец объяла слепота?
— Молчите! Я подавлен святотатством.
Но Вазари не отступал.
— Послушайте, хоть весть и не нова. Вас дома ждут немалые убытки. Вы, сидя здесь, утратите права на банковские вклады и пожитки.
— Поскольку я не выжил из ума, на родину не может быть возврата, — твёрдо заявил Микеланджело. — Отныне и Флоренция тюрьма. К чему менять темницу в час заката?
Однако гость никак не мог понять упрямства мастера.
— Над вами установлен здесь надзор. Под окнами и у ворот фискалы, как будто вы преступник или вор.
— На них мне обижаться не пристало, — спокойно ответил ему Микеланджело. — Ребята знают, я, как перст, один, и даже помогают мне немножко. То дров наколют — разожгут камин, то принесут воды и рыбу кошкам, хоть никого на помощь не зову.
Вазари вынул из кармана тетрадь и сделал в ней пометку, а затем пояснил:
— Мне надо для издания второго включить о вас ещё одну главу.
— Пишите на здоровье! — искренне пожелал Микеланджело. — Что ж плохого? Всю жизнь я сотворял апофеоз, сподвигнутый надеждой изначально. Но мне шипы достались вместо роз, и гимн звучит, как реквием, печально по всем разбитым в прах былым мечтам.
Продолжая что-то вносить в тетрадь, Вазари сказал:
— О всех твореньях ваших я писал похвально, и первый опус мой известен вам. Рассказ о вашей жизни неприметен.
— Я выразил себя в делах, как мог. Всё остальное — плод досужих сплетен.
— Чем опровергнуть их? Я дал зарок.
— А тем, — ответил Микеланджело, словно диктуя Вазари, сидящему с тетрадью в руках, — что жизнь веду я, как художник, и знаюсь только с кистью и резцом, что дара собственного я заложник и сам себя считаю должником. Всяк человек — великая загадка! Путь к постижению её тернист. Зато у литераторов всё гладко, и не краснеет рукописный лист.
— Затворничество ваше непонятно, — возразил Вазари.
— Что ж непонятного? Жесток наш век, и всякое общенье с ним отвратно. Тщета надежд — мельчает человек, хоть сил ему отпущено стократно. Усмешка старца ныне мой удел.
— А выйдет ли ваш стихотворный сборник? — спросил Вазари, готовый записать ответ.
— Со временем к нему я охладел и на поэзию надел намордник. Но трудно отрешиться целиком — пишу исповедальные сонеты.
— А можно ли взглянуть на них глазком?
— От вас, мой друг, я не таю секреты, — сказал Микеланджело и, вынув из папки исписанный листок, протянул его Вазари.
Подойдя к канделябру с горящими свечами у края стола, тот начал вслух читать сонет, то и дело прерывая чтение и запинаясь, так как плохо разбирал корявый почерк автора:
С годами тяга к жизни всё сильней.
Чем дольше прожил — пуще и желанье.
Невесело моё существованье,
Но медлит смерть прервать теченье дней.
На что же уповать душе моей,
Коль путь к прозренью дан нам чрез страданья,
А страхи или разочарованья
На склоне лет становятся острей?
Когда за муки бесконечных бдения
Тобой вознаграждён, Господь родной,
Я обретаю веру на спасенье.
Но постарел и выдохся мой гений,
И мне давно пора бы на покой —
От долгих ожиданий глохнет рвенье (296).
Под конец чтения Вазари умолк, еле сдерживая рыданья. Услышав всхлипывания, Микеланджело удивлённо спросил:
— Вазари, плачете вы? Вот те раз!
— Вы за назойливость меня простите…
— Да успокойтесь! — сказал Микеланджело при виде охваченного волнением молодого друга. — Заверяю вас, что князя я приму, раз вы хотите.
Тот поднялся, видимо, удовлетворённый ответом мастера.
— Пойду. Я благодарен вам вдвойне.
Микеланджело проводил его сожалеющим взглядом.
— Чего печётся он о князе-гниде? Осадок неприятный, горько мне. Зачем он вновь напомнил об обиде?
Он встал и подошёл к изваянию.
— Опять с ней время коротать в тиши. Но я у смерти вырву вновь отсрочку, и в жизнеописаньях не спеши, Вазари, мой биограф, ставить точку!
Почувствовав озноб, он подбросил в камин пару поленьев, а за окном не утихал ветер и по крыше барабанил дождь.
— Чего кричу? Ведь жизнь моя прошла, и я девятый разменял десяток. Душа вся липким страхом обросла, и с каждым мигом тает сил остаток.
Он задумался, вспомнив вдруг момент прощания с Витторией Колонна:
— Ушла последняя надежда с ней, как исчезают звёзды с небосклона… Покуда жив, себе я не прощу, что руку лишь поцеловал покойной.
Из груди вдруг вырвался стон.
— Во мне ещё чуть тлеет уголёк. Из праха вышел я и прахом стану. Как я устал носить костей мешок и спину гнуть на благо Ватикану!
Микеланджело стремительно поднялся и подошёл к скульптуре «Пьета».
— Надежду в мраморе я изваял, и вот надгробие почти готово. Но главного я миру не сказал. Упрямый камень, вымолви хоть слово!