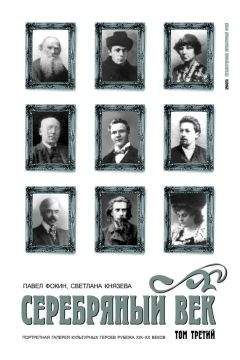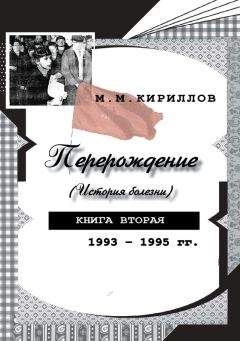Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р.
Читатели его любят как жизнерадостного поэта. В нем чувствуются необычные запасы энергии и мягкого света жизни. Руки его прошли школу „Цеха поэтов“. И у него, как он сам говорит, есть „глаз на стихи“.
Первая книга стихов Рождественского – „Лето“ (не считая ученических стихов, вышедших отдельной книжкой в 1914 году). Она – как новенькая гимназическая фуражка. Незатейливо, искренно, наивно. „Золотое веретено“, изданное в 1921 году, – книга франтоватая, автор форсит акмеистическим плащом, взятым напрокат у символистов. Но так как он делает все это весьма честно и живо, – ему даже веришь, как подростку.
Теперь он готовит „Большую Медведицу“. Отсюда будущие его биографы будут считать новые даты. Здесь голос юноши ломается и начинают расти усы. Поэтому „Медведица“ ломаная книга. В ней есть классические традиции, есть строки первых книг, но звучат и новые голоса. Умом познаешь новое скорее, чем сердцем. А „сердце“ у Рождественского романтически-теплое, живое и капризное» (И. Басалаев. Записки для себя).
«У Всеволода Рождественского есть тот беспредметный и напряженный лиризм, который владел нашими поэтами лет десять тому назад. Меня он пленяет едва ли только по воспоминаниям. Есть магия в этом набегании строк одна на другую, набегании, не дающем задерживаться ни на одном образе и оставляющем не память о стихотворении, а лишь вкус его. Я верю, многое переменится в поэте, многое привлечет его внимание и потребует быть сказанным – ведь путь поэта это путь его любви к миру, – но мне хотелось бы, чтобы это его качество осталось. В нем залог самодовлеющего очарования, самого важного в поэзии» (Н. Гумилев. Письма о русской поэзии).
РОЗАНОВ Василий Васильевич
Писатель, философ, литературный критик, публицист, журналист. Сотрудник газеты «Новое время» (с 1899 по 1917 постоянный обозреватель). Публикации в газетах «Новое время», «Русское слово» и мн. др.; журналах «Мир искусства», «Новый путь», «Весы» и др. Сочинения «О понимании» (М., 1886), «„Легенда о великом инквизиторе“ Ф. М. Достоевского» (СПб., 1894), «Сумерки просвещения» (СПб., 1899), «Религия и культура» (СПб., 1899), «Природа и история» (СПб., 1899), «В мире неясного и нерешенного» (СПб., 1902), «Семейный вопрос в России» (т. 1–2, СПб., 1903), «Около церковных стен» (т. 1–2, СПб., 1906), «Темный лик: Метафизика христианства» (СПб., 1911), «Люди лунного света: Метафизика христианства» (СПб., 1910), «Уединенное» (СПб., 1912), «Литературные изгнанники» (СПб., 1913), «Опавшие листья. Короб первый» (СПб., 1912), «Опавшие листья. Короб второй» (Пг., 1915), «Сахарна» (СПб., 1913), «Апокалипсис нашего времени» (Сергиев Посад, 1917–1918) и др.
«Я – великий методист. Мне нужен метод души, а не ее (ума) убеждения.
И этот метод – нежность.
Ко мне придут (если когда-нибудь придут) нежные, плачущие, скорбящие, измученные. Замученные. Придут блудливые (слабые)… Только пьяных не нужно…
И я скажу им: я всегда и был такой же слабый, как все вы, и даже слабее вас, и блудливый, и похотливый. Но всегда душа моя плакала об этой своей слабости. Потому что мне захотелось быть верным и крепким, прямым и достойным… Только величественным никогда не хотел быть…
„Давайте устроимте Вечерю Господню… Вечерю чистую – один день из семи без блуда…
И запоем наши песни, песни Слабости Человеческой, песни Скорби Человеческой, песни Недостоинства Человеческого. В которых оплачем все это…
И на этот день Господь будет с нами“.
А потом шесть дней опять на земле и с девочками» (В. Розанов. «Сахарна»).
«В кожаном кресле у письменного стола сидел с „Новым временем“ в руках еще один человек. Развернутая газета закрывала всю его фигуру. Дягилев познакомил меня и с ним: это был Василий Васильевич Розанов. Когда он опустил газету, то оказался обладателем огненно-красных волос, небольшой бороды, розово-красного лица и очков, скрывавших бледно-голубые глаза. Он был постоянным посетителем редакции [„Мира искусства“. – Сост.], редкий день я его не встречал там между четырьмя и пятью часами. Был он застенчив, но словоохотлив и, когда разговорится, мог без конца продолжать беседу, всегда неожиданную, интересную и не банальную» (И. Грабарь. Моя жизнь).
«Маленький и тщедушный, с жиденькой бороденкой и в поношенном пиджаке, с шаркающей походкой и будто бы все куда-то пробирающийся сторонкой, он казался какою-то обывательской мелюзгой, не то плюгавым писцом, не то захолустным мещанишкой. Но вдруг целые снопы брызнувших из глаз искр и лучей, на мгновение озарив его лицо, неотразимо внушали представление о человеке исключительных даров духа, о существе редкой породы, ошибкою судьбы заброшенном в нашу мутную среду» (Д. Дарский).
«Бороденка – зеленая: табачная зелень, и в ней совсем темные, не от рыжины, а от табаку, волосенки, руки трясутся; на шее синие жилки; все прокурено: бороденка, нос, щеки, шея, даже уши обкурены. Пальцы на руках – коричневые от табаку. Какая уж тут праведность, когда губы сохнут без папироски, как без воды живой! Как другие не только „едят“, но и „объедаются“ и „обжираются“, так и он не только „курил“, но и „обкуривался“. Весь обкурен и все кругом обкурено» (С. Дурылин. В своем углу).
«Однажды, когда мы сидели с З. Н. [Гиппиус. – Сост.], предаваясь перед камином высокой „проблеме“, в гостиную из передней дробно-быстро, скорее просеменил, чем вошел, невысокого роста блондин, скорей плотный, с едва начинавшейся проседью желтой бородки торчком; он был в черном, как кажется, сюртуке, обрамлявшем меня поразивший белейший жилет; на лоснящемся полноватом краснеющем (бледно-морковного цвета) дряблевшем лице глянцевели большие очки с золотою оправой; а голову все-то клонил он набок; скороговоркою приговаривал что-то, сюсюкая, он; и З. Н. нас представила; это был – Розанов.
Уже лет десять с вниманием я уходил в мир идей его; он казался едва ли не самым талантливым, гениальным почти; но и самым враждебным казался он мне; потому-то с огромным вниманием стал я рассматривать Розанова; он же, севши на низкую табуретку пред Гиппиус, тихо выбрызгивал вместе с летевшей слюною короткие тряские фразочки, быстро выскакивающие изо рта у него беспорядочной, высюсюкивающей припрыжкою; в вытрясаемых фразочках, в той характерной манере вытрясывать их мне почуялась безразличная доброта и огромное невнимание к присутствующим; казалось, что Розанов разговор свой завел не в гостиной, – в передней еще, не в передней – на улице: разговор сам с собой о всем, что ни есть: Мережковских, себе, Петербурге; и вот разговор „сам с собой“ продолжал он на людях – о людях, к которым он шел, на которых вытрясывал он свои мысли, возникшие где-то вдали; разговор – без начала, без окончания, разговор ни с того ни с сего, перескакивающий чрез предметы, попархивающий, бесцеремонный по отношению к собеседнику; было густейшее физиологическое варение предметов мыслительности В. В., – с перескоками прямо на нас: на меня, на З. Н., которую называл просто „Зиночкой“ он, подсюсюкивая и хватаясь дрожащими пальцами рук, очень нервных, – за пуговицу жилета, за пепельницу, за лилейные ручки З. Н.; руки – дергались, а коленки – приплясывали; карие глазки, хитрейше поплясывающие под очковыми глянцами, мне казалось, мечтали о чем-то; они не видали того, что все видят: казались слепыми кусочками, плотяными и карими; в облике Розанова улыбалась настойчиво самодовольная мещанская тривиальность; „мещанство“ кидалось нарочно, со смаком, с причмоками чувственных губ; эти губы слагались в улыбку не то сладковатую, приторно-пряную, а не то рисовали насмешливую издевку над всем, что ни есть; да, „в открытом мещанстве – хитер, в своих хитростях – нараспашку“ – хотелось сказать, созерцая варившего мысли В. В.; мне припомнился жест его рук, когда вынул из бокового [кармана] жилета гребеночку и при нас же пустился причесывать гладкие, точно прилизанные волоса; я подумал, что если бы существовали естественные отправления, подобные отправлениям „просфирни“, то Розанов был бы „просфирником“ какого-то огромного храма; да, он где-то пек (в святом месте), а может быть, производил беззастенчиво физиологические отправления своей беззастенчивой мысли; начинал их на улице, у себя в кабинете; и отправления эти продолжил теперь он при мне и 3. Н. Мысли как-то совсем неожиданно кипели и прядали пузырями со дна подсознания; безо всякого повода выскочили две-три фразы из моего „Письма студента-естественника“, напечатанного в первом № „Нового Пути“; он забулькал слюною и словом в меня, похвалил за письмо, с тем не слушающим ответов небрежеством перекинулся после к З. Н., стал подшучивать, что она, дескать, – ведьма; 3. Н. – отшутилась; она называла В. В. просто „Васей“; а „Вася“ уже шепелявил о чем-то своем, о домашнем (об отношении Варвары Федоровны, жены, – к З. Н.); дергалась нервно коленка; и – маслилось лоском лицо; губы сделали ижицу, карие глазки „не видели“; и – моргали куда-то: из-под стекол очков побежали они в потолок» (Андрей Белый. Воспоминания об Александре Блоке).