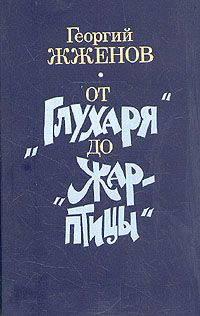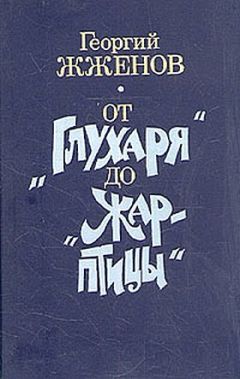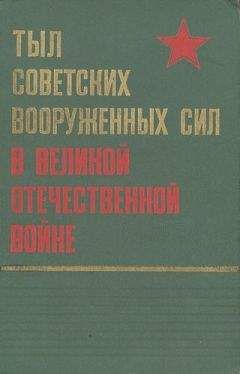Инга Мицова - История одной семьи (ХХ век. Болгария – Россия)
– Гриб! Куда делся гриб?
– Он последнее время все время лежал на дне, стал похож черт знает на что, я только что выбросил его в мусоропровод. На что он тебе сдался?
Папа писал об этом времени Вовке:
«Тут все пишут: Володя научные труды, Инга и Сережа – рассказы, все писатели (и я с ними), и только Гешка – читатель: читает много и постоянно».
Двадцать четвертого января, в день рождения тети Таси, мы поехали к дяде Жоржику. Папа, в генеральской парадной шинели, которая совсем не шла к неуверенной походке старика, вошел, пошатываясь, в большой вестибюль высотного здания на площади Восстания. Мы шли следом, поднялись на лифте, обитом красным деревом с зеркалами, прошли по огромному коридору, где всегда стоял запах дорогой еды и свежесваренного крепкого кофе, позвонили. Жоржик спросил «Кто?» своим тихим голосом и открыл дверь. Папа и Жоржик крепко обнялись. Но папа не повис у него на шее, не заплакал. Он крепился и подчинялся особому укладу этого дома, где всегда все было в порядке. Папа сидел за прекрасно сервированным столом и тихо, с несвойственным ему спокойствием, рассказывал, как умирала мама. И только по округлившимся, ставшим совсем черными глазам я видела, как ему тяжело. Всегда веселый Жоржик притих, казалось, стал на цыпочки у постели тяжелобольного, слушал молча папу. Вероятно, Гриша ему сообщил про плач в вагоне.
Девятого февраля мы опять поехали к Жоржу, теперь на дачу. Папу притягивали мамины братья. Была суббота. Был сороковой день после маминой кончины. Папа, в отличие от меня, прекрасно понимал значение «сороковин», как этот день называют болгары. Поездка за 120 километров от Черноголовки, через всю Москву, развлекла папу, и он уже не был таким отрешенно-печальным и мог говорить и на другие темы.
То, что папа понимал значение сорокового дня со дня смерти, было для меня неожиданностью. Видимо, я и здесь ошибалась – папа был гораздо ближе к Богу, чем представлялось мне. В нашем доме никогда не говорили о вере. Папа знал, что мама ходит в церковь, знал, что я хожу. Но никогда не позволял себе насмешки, никогда вопросы веры не обсуждались. Теперь я думаю, что папа допускал возможность существования другого мира. То, что папа был суеверен, верил в сны – это точно.
– Здравко, – говорила мама, – я сегодня видела во сне мясо.
– Мясо? – задумывался папа, и наш поход на Витошу откладывался.
Мясо – это к болезни. Он боялся, что у меня – не у него – при перегрузке случится аневризма аорты. Он будто предчувствовал эту аневризму, и она случилась – только не у меня, а у мамы.
– Ты почему вернулся? – спрашивала мама папу, который только что вышел из дому, торопясь по важному делу.
Папа, злой, красный, плевался:
– Открываю дверь, а навстречу баба. Да не только баба, а еще и с пустым помойным ведром. Тьфу.
В связи с суевериями я вспомнила, как мы с папой поехали в гости к космонавту Герману Титову. Мы приехали к нему на Мосфильмовскую к обеду. Тамара, жена Германа Титова, уже накрыла на стол. За столом, кроме нас и Титовых, оказался прекрасный парень, впрочем, не такой уж и парень – моих лет, летчик-испытатель, полковник. Кажется, по имени Сергей. Оказавшись среди людей совершенно другого склада, чем ученые, которых я считала наиболее достойными уважения, я была поражена. Эти два человека – Титов и особенно летчик-испытатель – поразили меня: поразила простота и отвага, ум и скромность, веселость и открытость. И никакого снобизма. Летчик говорил о суеверии.
– Есть приметы, в которые мы абсолютно верим, и огромное количество случаев тому подтверждение.
– Например? – спросила я, смеясь.
– Если, например, в первый раз я уложил парашют в определенной последовательности и полет прошел удачно, я никогда не поменяю порядок.
Я слушала с удивлением. Я понимала, что эти люди смотрят в глаза смерти, и поэтому к их словам надо прислушиваться. После их примеров мне не показались уж столь смешными папина вера в сны и приметы.
Из моих записок того времени:
«Завтра будет 40 дней со дня маминой смерти. Дни с 18 января по сегодняшний так были наполнены событиями, трагедией и истериками, что отодвинули мамину смерть гораздо дальше, чем на 40 дней. У меня сердце переполнено жалостью к Сереже и маме. Но ни один из них об этом не знает, и одному из них она уже не нужна.
Я никогда до смерти мамы не думала о потустороннем мире и поэтому никак не могла себя к этому подготовить. Но как только мама умерла, в меня вошла, иначе не скажешь – именно вошла мысль, что мамина душа жива. Я плакала, переживала, еле передвигалась, но я абсолютно не верила в ее смерть. Слова формировались бессознательно в фразу “она ушла с этого света”. Я пережила ее смерть – а раньше думала, что умру или сойду с ума, спокойно пережила, когда ее закапывали, – а раньше думала, что умру. Бог наградил меня верой, я не могу это объяснить, но я абсолютно верю, верю… Недавно вдруг почувствовала, как мама удаляется от меня, и я, благодаря папе, вспомнила христианский обычай – 40 дней.
Это, вероятно, и называется религиозным опытом.
…Позавчера, 27 февраля, папа пошел гулять один, упал, стал подниматься, упал опять и сломал ногу в голени. На сломанной ноге пришел домой. Врачи говорят – перелом хороший, и когда я это повторяю, то папа отвечает: “Оставь прилагательные, а употребляй существительные”. Я знаю свою вину в случившемся, вначале я винила себя больше. Но я не запретила категорически папе выходить одному, потому что видела, что он стал различать дорогу, у него пропал страх, изменилась походка. Точно могу сказать, что не перестала запрещать не для облегчения своей участи, а для улучшения его самочувствия. Но я забыла про лед, и в этом моя вина. Все же я Гешке сказала: “Мы сделали с тобой злое дело: я – потому что не запретила ему выходить одному, ты – потому что не настоял, чтобы пошел с тобой”.»
Папа быстро поправлялся, близилась весна, он стал выходить на балкон. Я, закутав ему ноги, усаживала его в кресло на солнце. Именно тогда он погрузился в работу: по предложению моего мужа Володи он написал свои воспоминания о Военно-медицинской академии. Он описывал события пятидесятилетней давности, помня имена всех преподавателей, их манеру говорить, их внешность… Первый экземпляр этой рукописи папа отдал в музей Военно-медицинской академии, третий я вывезла из Болгарии после папиной смерти. И описание учебы в ВМА взято именно из этих записок весны 1980 года. В марте 1980 года папа начал постепенно возвращаться к привычному для него образу жизни – сидеть за столом и писать.
Первого мая мы с Володей и сыновья отправились плавать на байдарках по реке Шерна, и тогда-то, в наше отсутствие, папа и подружился с нашими друзьями – Сережей и Наташей Милейко. Надо сказать, что из всех наших черноголовских знакомых только они приняли и поняли папу, и папа к ним чувствовал расположение. Папа, оставшийся дома в одиночестве, был приглашен к ним в гости, они выпили с Сережей, и папа, так долго молчавший, наконец заговорил. Наташа уже давно ушла спать, а они сидели, попивали вино, и папа, воодушевившись, рассказывал и про восстание в Вене, и про Грац, и про восстание в Плевне. Уже после отъезда папы Сережа Милейко упоминал какие-то подробности, я слушала с удивлением и интересом. Я ничего этого не знала – из жизни моего собственного отца!