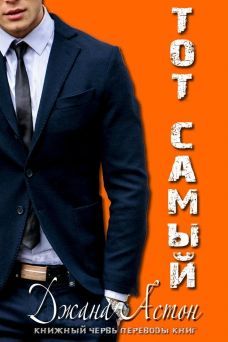Коллектив авторов - Письма отца к Блоку
— Я думала, ты меня не узнаешь: ведь ты стал такой знаменитостью, — сказала я.
— Как можешь ты говорить это серьезно, Соня! Я никогда не переставал помнить и любить вас по-прежнему. Только теперь я живу большей частью один. В обществе мне тяжело бывать.
И на мою просьбу приехать к нам он не ответил согласием. Он прошел в первый ряд, затем за кулисы, и больше я его не видела.
Но через несколько дней я сама поехала к нему. Повод для свидания был деловой. После нескольких лет вдовства я выходила вторично замуж. Мы решили венчаться негласно, позвав на свадьбу только двух свидетелей. Одним из них был мой родной брат Н. Н. Качалов, «Никс», как мы его звали в нашей семье, другим я наметила Сашу и написала ему, прося принять меня по секретному делу. Он немедленно назначил день. Это было в начале января 1916 г. Я пришла к нему в 5 часов вечера. Он сам открыл мне дверь. В квартире больше никого не было. Комната, в которой он принимал меня, была темной, с простой кабинетной обстановкой. Мы сели посреди комнаты за круглый стол. Когда я ему сказала, что его квартира кажется мне мрачноватой, он подвел меня к окну:
— Зато посмотри, какой вид! — В окне виднелась речная даль (он жил на Пряжке).
Когда я изложила свою просьбу, он немедленно и очень охотно согласился быть моим шафером. Ему даже понравилась конспиративность нашей свадьбы.
Его отчужденность от людей произвела на меня тяжелое впечатление, и я решила это высказать.
— Если бы я была, все время около тебя, ты был бы, может быть, другой!
— Да, возможно, что я мог бы быть счастливее… Но я считаю, что человек в наше время не имеет права на счастье. Я дорожу своим одиночеством. Оно мне не мешает любить жизнь во всех ее проявлениях. Вот эта мелочная лавчонка, что видна из моего окна, говорит мне больше, чем вся искусственно создаваемая людьми мишурная красота, потому что в этой лавчонке сама жизнь.
— Ты называешь мою жизнь мрачной, — продолжал он, — но я люблю эту мрачность и считаю кощунством радоваться и быть счастливым в наше ужасное время.
Мы говорили с ним больше часа. Мы не касались внешних событий его и моей жизни, происшедших за те 14 лет, что мы не виделись, а делились только тем, что накопилось у нас за это время на дне души. Я поняла, что этот человек ушел от меня далеко, что он живет уже не своей личной жизнью, а жизнью своей страны, что в своем сердце он носит судьбу многих и многих людей.
Мне было радостно наблюдать, как под действием юношеских воспоминаний сходит с его лица скорбная складка, и лицо его освещается светлой улыбкой прежнего Саши Блока.
Через несколько дней состоялась наша свадьба. Когда мы с мужем приехали в церковь, Саша был уже там. На нем был черный сюртук. (Дома он был в какой-то куртке с отложным мягким полотняным воротничком.)
Он был огорчен, что с нами приехали еще четверо наших близких родных и даже мягко упрекнул меня в том, что я его обманула. Я объяснила ему, что это вышло случайно. Он один держал венец над моей головой, и я чувствовала, что делал он это с любовью.
После свадьбы он наотрез отказался ехать с нами ужинать. За ужином у всех в бокалах вместо вина были живые розы. Все присутствующие соединили их в один огромный букет, и мы с мужем завезли его Саше на квартиру с приветственной запиской, которую я осмелилась написать в стихотворной форме. А на другой день я получила от него то прекрасное письмо, которое напечатано нынче в однотомнике Блока. На конверте он написал мою новую фамилию и, таким образом, нарушил нашу «тайну».
Больше я его не видела.
Приложение II. ВОСПОМИНАНИЯ Е. А. БОБРОВА И Е. С. ГЕРЦОГ ОБ А. Л. БЛОКЕ
Публикация Т. Н. Конопацкой
Публикуемые ниже воспоминания писались не в непосредственной близости к изображаемым событиям, а долгие годы спустя. Зато, может быть, то немногое, что у этих людей не ушло из памяти, не стерлось с годами, представляет особый интерес. И Бобров, и Герцог встречались с Александром Львовичем довольно часто вплоть до его кончины.
Стоит обратить внимание на то, что оба эти столь несхожих между собой человека независимо один от другого запомнили и отметили некоторые общие черты и особенности в характере и облике А. Л. Блока. Но многое, и это естественно, освещено ими по-разному.
Машинописный экземпляр воспоминаний философа и публициста Евгения Александровича Боброва (1867–1933) хранится в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, куда он поступил в 1971 г. от Л. Н. Черткова1.
Е. А. Бобров окончил Юрьевский (бывш. Дерптский) университет по двум отделениям: историко-литературному и философскому. В 1895 г. он защитил диссертацию на степень магистра философии по теме «Отношение искусства к науке и нравственности» и был утвержден в должности доцента философии Юрьевского университета. С 1896 г. Бобров — профессор философии Казанского университета, а с 1903 г. он занимает ту же кафедру в Варшавском университете. С 1915 г. он в Ростове-на-Дону, куда был переведен Варшавский университет. С установлением Советской власти Бобров продолжает оставаться профессором Ростовского университета. Он преподает в Совпартшколе и читает лекции для населения по разным отраслям знаний. Последние годы жизни Бобров работал в Ростовском педагогическом институте. В своем письме к Е. Ф. Никитиной в мае 1930 г. он пишет: «Я сильно постарел, но еще работаю. Ваши книги покупал и пользовался ими для лекций по литературе»2.
Разносторонне образованный, владевший многими иностранными языками Е. А. Бобров имел тесные личные связи с видными литераторами и учеными своего времени. Он состоял в деловой и дружеской переписке с В. И. Сайтовым, с которым обменивался печатными трудами, с Н. О. Лернером, с. В. Е. Чешихиным (Ветринским). Между прочим, в одном из писем (от 7 ноября 1916 г.) он просит Чешихина поблагодарить от его имени М. А. Цявловского, который, — пишет он, — «вспомнил и обо мне как о пушкинисте»3.
В течение жизни Бобров собрал большую библиотеку, завязывал связи с петербургскими и московскими антикварами. Об этом свидетельствует его письмо в антикварную книжную торговлю П. Шибанова4.
В своих воспоминаниях Бобров приводит новые факты, говорящие о сложном, доходящем до патологической странности характере А. Л. Блока. Но в них имеется также подтверждение его научной одаренности, своеобычности и широкой образованности. Особенно ценно свидетельство Боброва о том, что Александр Львович не пользовался расположением университетского начальства, обходившего его наградами, а также повышением по службе. Не менее важен рассказ Боброва о взаимоотношениях А. Л. Блока и Г. Ф. Симоненко5, ибо он вносит существенную поправку в книгу Ник. Дубровского «Официальная наука в царстве Польском» (СПб., 1908), где автор ставит между этими профессорами чуть ли не знак равенства и рассматривает обоих как представителей господствующей в Польше клики ставленников царской России.