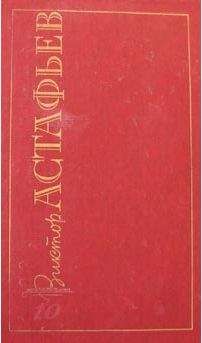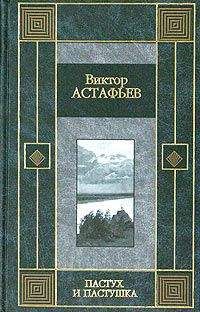Юрий Ростовцев - Виктор Астафьев
— Но секрет-то, секрет Рождественского в чем?
— Повторяю тебе, он был придирчивым, легко взрывался до ругани, но воспринимал нас людьми себе равными. Мы все это понимали и ценили. Он ругался от неравнодушия, он как бы был в нас, в судьбах наших заинтересован.
Ну, как бабушка — ругается, она ведь не со зла. И наказывает даже, но из чувства справедливости, желая внуку ума-разума… Он стал тоже родным нам человеком. И Соколов также к нам был настроен.
Конечно, имели значение и обстоятельства севера. Длинная зима, податься некуда; город, заваленный снегом. Жили от парохода до парохода, то есть от июня одного года до июня другого. Самолеты летали только почтовые, связи с Большой землей нет.
А специфика северных школ в тридцатые — крепкие учителя из числа ссыльных или скрывающихся, недобитых интеллигентов. Выживали вместе. Ребятишки и взрослые в школе весь день, увлечены каким-нибудь творчеством. Шутка ли, даже фотодело желающие осваивали. За свои россказни и «исключительные артистические способности» я был призван в драмкружок. Впервые тогда я переступил порог Дворца пионеров. Правда, учитель слово с меня взял, что на учебе мои театральные увлечения не отразятся.
Впервые рояль увидел там, во Дворце пионеров. Меня потрясла сама его внешняя фактура. Я погладил его. А когда на нем заиграли, чуть не умер от разрыва сердца. Как много густого, сочного звука!
— Вы и на сцену выходили?..
— Да ты мне не веришь, что ли?!.. Все это правда, все было на самом деле! В «Недоросле» я играл Скотинина. Для чистоты образа мне подушку привязывали на пузо. Играл с успехом! Потом приятели до конца учебы звали меня «Скотиной», а я, довольный, на театральное свое имя откликался.
Потом вдруг к театру охладел, захотел учиться на балалайке. Две пьески разучил — опять погас. Перекинулся на гармошку: две плясовые освоил и забросил. Так вот меня пошатывало. Но, правда, чтению никогда не изменял.
— То есть вы фонвизинский текст разучивали наизусть и его произносили со сцены?
— Ну, все это, естественно, по-мальчишески. Текст знал, но не буквально. Я привирал, присочинял ребятам на потеху, им особенно веселыми казались мои импровизации.
Жалко, что реплик своих, сочиненных под Фонвизина, не помню, сейчас бы тебе воспроизвел.
— Выходит, у вас были актерские данные?
— Скажу тебе, не хвалясь, ребята неистовствовали. Впрочем, нам-то лишь бы баловать, не учиться. Да и радости не так много было в той жизни.
Находились в весьма суровых условиях. Улицы завалены снегом, деваться некуда. Это принуждало к активности, к поиску занятий, развлечений внутри своего школьного, интернатовского коллектива.
Однажды затеяли рукописный журнал. Кто сшивает и клеит, кто сочинять может — пишет, редактирует. С рисунками журнал делали. Вступили в переписку с самим Роменом Ролланом, с Горьким… В том журнальчике и состоялась моя первая публикация.
— А как это происходило?
— Игнатий Дмитриевич предложил нам сочинение о коротких летних деньках. Я рассказал на уроке, как в лесу бродил. «Годится?» — спрашиваю. «Стоит попробовать», — согласился учитель. Да, заблудился я тогда капитально. Но папа мой с мачехой даже в сельсовет не заявили о пропаже сына. Четверо с половиной суток таскался я по полярной тайге. Тяжело пришлось. Если кто прочитает сейчас об этом в «Васюткином озере» или в «Царь-рыбе», то подумает: автор все выдумывает. Отнюдь!
То, что мне писатель поведал, он более обстоятельно описал в своем очерке «Подводя итоги». В тот день, когда писалось сочинение, Игнатий Дмитриевич сам был в творческом воодушевлении. Дав ученикам задание, он тоже уселся за свой стол и уткнулся в рукопись. Некоторое время ребята с любопытством наблюдали, как он мгновенно углубился в свою работу. Что-то поправлял и вписывал, а то вдруг черкал и даже вскакивал и ритмично вышагивал по комнате.
— Сочиняет! Тоже сочиняет, — прошелестело по классу. И ребята, воодушевленные столь поразительным наглядным примером, рьяно бросились догонять своего учителя.
Витя решил описать случай, который с ним произошел летом, когда он заблудился в заполярной тайге между станками Карасино и Полоем.
«Весной (1992 года) я пролетал на вертолете над теми местами, где блуждал, — писал Астафьев в 1996 году, — и убедился, что мои прежние утверждения, будто я вел себя в тайге умело и стойко, потому и спасся, — самонадеянны и ничего не стоят. В этой тайге самому спастись, да еще будучи мальчишкой, — невозможно, только Господь Бог может тут спасти, что он, Милосердный, не раз и делал в моей жизни.
Как бы там ни было, я поблуждал по страшному Заполярью и уцелел, и свое сочинение так бесхитростно, прямолинейно и назвал: „Жив“.
Никогда я еще не старался, не работал с такой любовью, как в тот раз.
И вот снова урок литературы. Игнатий Дмитриевич раздает тетради с сочинениями, кого бранит, кого похваливает. Тетрадей на столе все меньше, меньше, вот голубеет и последняя, — „Моя!“ — екнуло и замерло сердце в моей, уже много страдавшей груди. Учитель бережно взял тетрадь, развернул ее и начал читать мое сочинение вслух. Затем поднял сочинителя с места, долго, подслеповато всматривался в него и сказал: „Молодец!“»
Надо ли говорить о том, что эта похвала дала новые силы подростку.
— Та рукопись едва ли сохранилась? — поинтересовался я у Виктора Петровича.
— Куда там! Даже ни одного оригинала журнала не сберегли, все сгорело. Жаль! Ведь и оригиналы писем в школу знаменитых литераторов также погибли. Уже теперь, на встречах с воспитанниками довоенной Игарки и учителями, говорю: «Что ж вы так-то с письмами самого Горького?!» — «Вот не уберегли». В голове не укладывается, нет! Зато в случившемся пожаре спасали бумажные портреты Ленина… Сдались они кому?.. Не было понимания, да и сейчас тоже.
Зато в результате творческих усилий школьников и их учителей в Москве в 1938 году вышла настоящая книга. Называлась она просто «Мы из Игарки». Удивительно, что одного из авторов этой книжки звали Васей Астафьевым, но он был лишь однофамильцем Виктора.
Журналистка Оксана Булгакова нашла архив той давней книги — рукописные материалы, которые легли в ее основу, а также разыскала участников альманаха, бывших школьников Игарки. Встречаясь уже в зрелые годы, они практически все добрым словом вспоминали Игнатия Рождественского:
«Да, худ был, и слабоват, и в очках с толстыми стеклами, а на охоту с нами ходил, по кочкам болотным ползал. Он у меня классным руководителем был, а Миша у него в кружке литературном занимался. Он на охоту нас водил не для того, чтобы стрелять, а чтобы научить видеть красоту. „Мы с собой-то, кроме ружей, фотоаппараты брали“, — говорит один. Другой тут же старается дополнить портрет: