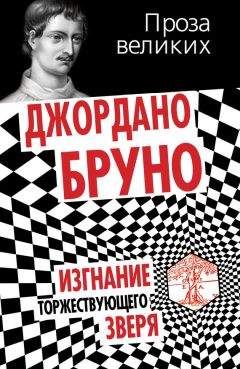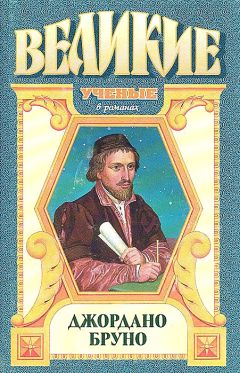Семeн Бронин - История моей матери. Роман-биография
— Да. Я этот возьму, — Рене потянулась за кулоном, более других ей понравившимся.
— Возьми два.
— Зачем?
— Менять будешь. Сегодня один, завтра другой.
— Одного хватит.
— Значит, постоянная женщина, — вывела из этого Сюзанна и примолкла, не зная, что еще поведать и подарить своей немногословной племяннице…
Дядя Камилл был в ином роде — ни Андре, ни Робер, а что-то среднее между ними обоими. Он позвал Рене в конторку, находившуюся на территории вокзала: показать, как он работает, но забыл об этом и, когда она пришла, удивился и глянул с неудовольствием, как на непрошеную гостью, но пригласил все-таки:
— Это ты? Заходи… Хотя и не вовремя. У нас заседание секции…
Кроме него в комнатке за узким столом сидели двое в рабочих спецовках: один — коренастый и разговорчивый, другой — долговязый и бессловесный; перед ними лежали листки с черновыми записями.
— Скоро взносы сдавать, а у нас, как всегда, в кассе пусто: обо всем в последнюю минуту думаем. К нам кроме железной дороги Даммари-ле-Лис приписан — тут-то и морока вся… — и обернулся к товарищам. Рене села в стороне, послеживая за ними, и они засовещались с прежней горячностью. Верная своим привычкам, она покосилась в сторону однорядной книжной полки, на которую сверху были навалены истрепанные, засаленные брошюры: среди них она издали увидела известного ею автора.
— Что нашла? — в первый и последний раз полюбопытствовал Камилл.
— Энгельса.
— Основоположник научного коммунизма. Тебе рано еще. Сдай сначала экзамены. А то ляпнешь про него — тебя завернут с ходу. На чем мы остановились? — спросил он товарищей. — На ком, вернее?
Речь шла о сборе денег с сочувствующих, или, как тогда говорили, с симпатизантов. Проблема была деликатная: с одной стороны, они не обязаны были платить, с другой — если с кого и можно было взять, то только с них и ни с кого больше.
— С Альбера будем в этот раз? — спросил Камилла коренастый: дядя был, видно, главным в этой чрезвычайной комиссии.
— С какого?
— Рени, конечно.
— С врача? — Камилл помедлил, будто в городе было несколько людей с таким именем и фамилией. — Сколько он в прошлый раз дал?
— Десять франков. Он деньги лопатой гребет.
— Альбер Рени, — не слушая его, повторил Камилл и тронул в раздумье подбородок. — Как бы нам не оттолкнуть его от себя совсем? Может, через раз просить будем? Не отойдет он от нашего движения?
— Не отойдет! А отойдет, так живо напомним. Враз клиентуру отобьем. Он в Даммари-ле-Лис живет, а не в поганом Мелене.
— Нельзя интеллигенцию отталкивать. Она может пригодиться… Он на прошлой неделе одну из наших пролечил, — виновато объяснил он. — Совершенно бесплатно.
— Это кого же? — Долговязый, как оказалось, был не вовсе лишен дара речи.
— Нашу родственницу по матери. Из Фонтенбло… Матери не откажешь — ты ведь ее знаешь.
— Булочницу? — вмешался другой, знавший всех в городе и за его пределами.
— Да, — и Камилл поспешил прибавить: — Но чисто рабочего происхождения.
Коренастый глянул скептически, но не стал возражать: в ячейке царила дисциплина и субординация.
— Так брать или нет?
— Попроси два франка. Скажи, на бинты для демонстрантов — ему это понятно будет. Как-никак, его профессия.
Коренастый занес в блокнот.
— Кому идти? Я к нему не пойду: он давеча мимо меня прошел и не поздоровался. И на прошлой неделе тоже. Совсем зазнался.
— Поль сходит. — Камилл оборотился к долговязому, и тот молча кивнул. — Скажешь, Камилл привет передает. Пролетарский. Кто дальше? Камилл Руссо? Это тот, что всем сочувствует? Его в списке правых видели. Мне об этом сказал совершенно достоверный источник из их лагеря. А еще мой тезка!
Коренастый был настроен в отношении Камилла Руссо куда добродушнее: видно, у каждого здесь были свои любимцы и антипатии.
— Боятся промахнуться, — объяснил он. — Но он хорошо дает. Вы, говорит, моя тайная любовь. Так в прошлый раз сказал. И в гостиную позвал. Обычно дальше прихожей не пускают.
— Эту тайную любовь нужно двойным обложением наказывать. Мы не в борделе. Нам не только их деньги нужны — но и публичные признания этих умников. Хотя они часто гроша ломаного не стоят. Пусть даст сорок. Для митинга в честь Советской России. Мы там такое угощение закатим, что полгорода придет. Так наверху велели. Особо важное мероприятие… Руссо этот. Вечно на двух стульях сидит.
— К нему идти? — спросил долговязый: он был у них главный мытарь.
— А как же? Он к тебе не придет — ты для него не та птица. Где он, интересно, правым платит? В карточном притоне, наверно. На улице Фаберже. Они все там собираются. Капиталисты — они и в свободное время только и умеют что деньги делать. Другого ничего не знают и знать не хотят.
— Где это? — поинтересовался коренастый.
— А ты не знаешь? — пренебрежительно удивился Камилл. — На углу с маршалом Петеном. Там вечно шторы занавешены — не видел разве? А не даст — и на него управу найдем. Он у нас охотник, ему раз в год разрешение надо брать на отстрел уток, а у нас в мэрии свой человек в этом отделе — он у нас тогда побегает и попляшет. Денег нет, — пожаловался он Рене. — Листовки напечатать — и то не на что. То, что собираем, почти все департамент себе берет: у партии там свои проблемы. В прошлом году кое что мэрия оплатила, так в этом пришли проверять — скандал закатили: мол, городские деньги на партийные нужды направляете! Чуть до суда дело не дошло!
— Что народные деньги на их любовниц и на колониальные войны идут — это их не волнует, — проворчал коренастый.
— О чем ты говоришь?! — воскликнул Камилл. — Народные деньги для них — их собственные! У нас каждый франк на счету, а они в миллионах обсчитываются! Ничего! Скоро все переменится: кто был ничем, тот станет всем — кто это сказал, Рене?
— Энгельс.
— Правильно! — одобрил тот. — Сразу видно, своя в доску. Он вместе с Марксом. Заложили основы нашего мировоззрения!..
Через месяц бабка сообщила ей, что семья будет платить за учебу, но жить она будет в Стене — последнее было произнесено ею категорически и бесповоротно. Платил за учебу Андре: выразил такое пожелание…
Рене прощалась с ними со сложным, противоречивым чувством. Ее здесь приняли, приютили на время, но полностью своей не признали и на продолжении родства не настаивали. Сказали, что всегда будут ей рады, но о комнате уже не было речи: она была член семьи, с которым вели себя не по-родственному. Но она не возражала, а согласилась и с этим. Дело было не в поведении отцовского семейства: в конце концов, они и к отцу так относились, и ей не на что было жаловаться. Ей показалось в какой-то момент при расставании, что она сама привыкла или приучила себя к тому, что у нее ничего нет и не было, и ей стало грустно от этого, потому что каждому хочется хоть что-то иметь в этом мире, хоть чем-то да свободно распоряжаться — особенно когда вокруг тебя столько людей, живущих с легкостью и в достатке…